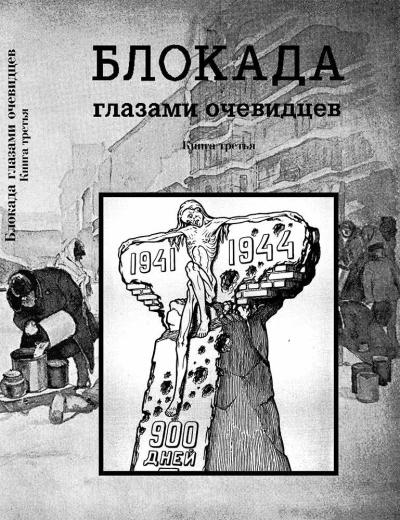
На обложке в центре рисунок А. П. Быстрова
“Эскиз памятника жертвам блокады Ленинграда”
Автор этих воспоминаний — доктор биологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Всероссийского НИИ защиты растений Ирма Викторовна Исси (родилась — 11 января 1930 года).
Девятое мая, Победы день, все понимают по-разному,
А я считаю его прощанием с нами, не праздником.
Мы – последнее поколение, кожей чувствовавшее войну,
Мы из тех, где каждый второй без жалоб ушел во тьму.
И срок для оставшихся будет дальнейшие десять лет,
Когда накануне Победы скажут «живых участников нет»
Ирма Исси
Памяти друзей блокадного детства Музы Цизмер (Скоробогатовой) и Гаральда Пуртагона
Самое сложное в нашей работе – допрос свидетелей. Событие одно, а каждый рассказывает свою версию, да так, что и сопоставить их трудно.
Ст. следователь Г. Рейтер
Странный этот мир, где двое смотрят на одно и то же, а видят полностью противоположное.
Агата Кристи
Восприятие событий, обычных или трагических, сильно различается у взрослых и у детей. Взрослые часто не придают значения тому, что кажется очень интересным ребенку, а события, важные для взрослого человека, ребенок может просто и не заметить. Иногда дети замечают те мелочи, на которые взрослый человек вообще не обращает внимания. Поэтому я решила перенести на бумагу свои детские воспоминания о войне и о блокаде так, как видела эти события, по-своему, в соответствии со своим возрастом, без какой-либо лжи. Я не сомневаюсь в том, что именно эти события и их высокий трагизм в значительной мере сформировали меня — мой характер, моё мировоззрение и моё отношение ко всем жизненным проблемам. Возможно, кому-нибудь это покажется интересным.
Для меня война началась тихо и незаметно с того, что в воскресный мартовский день 1941 года, ранним утром, когда не было еще и девяти часов, в двери нашей квартиры кто-то позвонил. Звонок был уверенным, но коротким и максимально тихим, колокольчик несколько раз звякнул и смолк. Звонивший явно не хотел будить тех, кто еще спит, но определённо надеялся, что кто-то всё-таки откроет ему двери. Я села на постели и сразу увидела, что бабушки в комнате уже нет. Она тихонечко встала, чтобы не разбудить меня, ушла на кухню и начала готовить воскресный завтрак. Это подтверждал аромат моих любимых блинчиков, тянувшийся с кухни. Я услышала, как со стуком распахнулась дверь папы-маминой комнаты, самой близкой к выходу, папа быстрыми шагами прошел к наружным дверям и открыл их. Сразу же послышались громкие и радостные голоса нескольких человек, одновременно сказавших: кто-то чужой — «Вик (это папе), Валёк (это маме)! Здравствуйте, мои дорогие», папа – «Фёдор, наконец-то ты появился! Где пропадал столько времени?» (это к вошедшему человеку) и мама – «Феденька, здравствуй!». Любопытство, переполнявшее меня, пересилило мою осторожность, я выползла из-под одеяла, чуточку приоткрыла дверь комнаты и тихонько, одним левым глазом, выглянула в коридор.
У папы было очень много друзей, особенно среди музыкантов и художников, но ни о ком по имени Фёдор я до сих пор ни от него, ни от мамы не слышала. Вот и выглянув, увидела совершенно незнакомого мне человека — среднего роста, стройного, с короткими чёрными блестящими волосами. И хотя я только чуть-чуть приоткрыла дверь, человек этот моментально заметил меня, и не успела я скрыться, как он быстрыми шагами подошел, подхватил меня под мышки, поднял и, обернувшись к папе, спросил: «Твоё сокровище? А я ведь перед отъездом видел его, правда, только в проекте!». Затем, посмотрев на меня, сказал: «Тебе сколько лет? Наверно, уже одиннадцать?” – и потом папе с мамой — “Это сколько же времени пролетело с нашей последней встречи!».
Я в это время барахталась, изо всех сил стараясь вырваться из его рук и встать на ноги, так как прекрасно понимала, что быть перед незнакомым мне гостем в одной ночной рубашке, хоть она и до пят, просто неприлично. Выручила мама, которая от входных дверей крикнула: «Федя, отпусти её». И мне: «Марш одеваться!». Меня аккуратненько поставили на пол, и я исчезла в своей комнате.
Вскоре все взрослые, а потом и я, пошли завтракать на кухню. Она у нас, в отличие от современных кухонь, была большая, более двадцати пяти метров, с окном, смотревшим на Неву и мост Свободы (теперь опять Сампсониевский мост). По центру кухни стоял дубовый обеденный стол, за которым свободно сидело 12 человек (но почему-то, когда приходили гости, число сидящих за столом чаще равнялось 13). К одной стене прислонялся большущий диван, обитый черной кожей, к другой, наружной, стене – огромная плита, тепло которой в зимнее время делало кухню самым уютным помещением нашей квартиры. Диван почти никогда не пустовал. На нём часто оставались ночевать разговорившиеся и опоздавшие на последний трамвай гости, либо по несколько дней отлёживались заболевшие папины друзья, в основном убеждённые холостяки, которым требовался уход и которых лечили дядюшка, Алексей Петрович, военный врач, и помогавшая ему в качестве медсестры мама.
Увидев на кухне бабушку, Фёдор ее обнял и трижды поцеловал: «Муттерхен, сколько лет, сколько зим! Вы прекрасно выглядите!» Услышав это, я сделала вывод, что они были давно знакомы, так как только домашние и их близкие друзья называли бабушку именно так. Совсем маленькой я даже думала, что у этой бабушки такое имя, одна бабушка, мамина – Екатерина или маленькая, а другая бабушка, папина – Муттерхен или большая, но потом оказалось, что на самом-то деле ее звали Еленой. «Ты к нам надолго? Поживёшь у нас?» — спросила она у Фёдора. Но он ответил, что выбрался к нам только на один единственный, свой выходной, день и ещё утром, приехав в Ленинград, сразу же купил обратный билет на ночной поезд в Москву, так как в девять утра понедельника он уже должен быть на приёме у своего большого начальства.
Завтрак проходил очень весело при непрерывных восклицаниях то Фёдора, то папы: — «А помнишь…», за которыми следовала очередная смешная история из их студенческой жизни. Слушая их рассказы, я поняла, что папа и Фёдор познакомились и подружились в Институте нацменьшинств Запада имени Ю. Ю. Мархлевского, где Фёдор был студентом, а папа, работая экономистом в бухгалтерии института, как заочник посещал вместе со студентами лекции. Вспоминая годы учёбы, они называли только мужские имена, и у меня создалось впечатление, что девушек среди студентов этого института не было. В институте училась молодёжь почти всех европейских национальностей. Но самым удивительным мне ещё тогда показалось то, что вопреки названию института в нём училось и несколько китайцев. После окончания института именно вместе с этими китайцами Фёдор и был заброшен в Китай.
Он весело рассказывал нам, что говорит теперь по-китайски совершенно свободно, без акцента, так что его не отличают от местных жителей. Жить ему приходится, как большинству китайской бедноты, на стоящей у берега Янцзы барже. При обходах полиции, чтобы избежать ареста, он просто тихо спускается в воду и переплывает с этой баржи на другую, где уже побывала полиция. Говорил Фёдор и о том, что китайская полиция сама не проявляет особого рвения к задержанию кого бы то ни было, так как на баржах прячутся и опасные уголовники, быстро и жестоко сводящие счёты с наиболее ретивыми полицейскими.
В конце завтрака по просьбе мамы он произнёс несколько слов по-китайски, у него даже голос зазвучал иначе, более гортанно. Увидев мою безмерно удивлённую физиономию, он сказал: «В переводе на русский язык я сказал хозяйке дома — большое спасибо за вкусное угощение» и опять поцеловал бабушку.
После завтрака папа с Фёдором уединились в дальней комнате для серьёзных разговоров. Меня, убедившись в том, что я выполнила все домашние задания, отпустили вместе с моей подружкой Музой гулять на спортивную площадку напротив дома. Бабушка и мама занялись приготовлением совместного воскресного обеда. В будние дни бабушка готовила для себя и тёти с дядей, они все предпочитали каши, а мама готовила для папы и меня, так как мы больше любили картошку, особенно жареную. Зато воскресные обеды у нас были общими, с послеобеденными разговорами и обсуждением всеми членами семьи разных интересных событий за неделю.
Тот воскресный обед прошел в воспоминаниях папы и Фёдора об их институтских друзьях, которые по окончании учёбы вернулись каждый на свою родину. Многие из них вошли в руководящий состав компартий и иногда их имена встречались в наших газетных статьях о политической жизни тех стран. Поздно вечером, уже после того, как меня уложили спать, я слышала, как перед уходом Фёдор долго прощался со всеми. Расцеловав бабушку и маму, он велел папе беречь женщин и особенно меня (такое сокровище!), затем они оба ушли и входная дверь громко захлопнулась. Папа вернулся часа через два, проводив Фёдора на Московский вокзал и посадив его на поезд. Фёдор снова исчез из нашей жизни на многие годы.
Во внешности Фёдора было что-то восточное – широкие скулы, нависшие на глаза верхние веки, черные жёсткие волосы. Поэтому на следующий день после его отъезда я спросила: «Папа, а Фёдор китаец?». «Нет, он из алтайских казаков, а у них обычны смешанные браки, они часто берут в жены местных девушек других национальностей». «А какие там местные жители?». «Самые разные азиатские народы, по-моему, есть и монголы, и китайцы». «А какая фамилия у Фёдора?». «А вот это тебе лучше не знать. Просто забудь о нём и никому никогда не рассказывай о его приезде».
Наша кухня как самое тёплое зимой и самое удалённое от входных дверей помещение оставалась для всех нас любимым местом ежевечерних семейных сборов и бурных дискуссий на любые темы. Чаще всего обсуждались последние медицинские новости и литературные новинки, которые старались не пропускать ни тётя, ни мама. Иногда спорили и на политические темы, но в этом случае меня в обязательном порядке выставляли с кухни и отправляли в комнату с интересной книгой. Круг друзей всех членов нашего семейства из-за беспричинных арестов и расстрелов сильно поредел в тридцать седьмом году, и этого никто забыть не мог.
На следующий день после отъезда Фёдора в Москву при полном вечернем сборе всех членов нашего семейства за кухонным столом папа рассказал, что Фёдор приезжал в Ленинград, чтобы сообщить нам о том, что скоро начнётся война. Нашей разведке в Китае стало известно, что в июне, между 20 и 25 числами, Германия нападёт на Советский Союз. Именно эти данные он привёз своему московскому начальству, а свой выходной день решил потратить на то, чтобы предупредить нас, своих друзей, о надвигающейся на нашу страну беде. Я хорошо помню, так как меня в этот раз почему-то не выгнали с кухни, что реакцией на папин рассказ было долгое «гробовое» молчание всех членов нашего семейства.
И это не удивительно. Представьте себе сами такую ситуацию — к вам в гости приходит человек и говорит, что через 3 месяца Нева выйдет из берегов и смоет половину города. Представили? А свою реакцию на это? Первой вышла из шокового состояния мама и насмешливо спросила: «Интересно, а Гитлер-то про всё это знает?». Я полагаю, что такое восприятие возможных будущих событий для моей мамы было простительным – счастливая молодая женщина, домохозяйка, полностью погружённая в семейные проблемы и далёкая от политики. У папы была другая реакция — почувствовав иронию в маминых словах, он сказал: «Знаете, а я Фёдору безусловно верю, не помчался бы он в Москву с непроверенными данными. По-моему, нам остаётся только надеяться на лучшее будущее». Остальные члены семейства — бабушка, дядя и тётя, продолжали озадаченно молчать, и я не помню, чтобы они хоть что-то сказали. Но жизнь продолжалась, и через несколько дней в повседневной суете и домашних заботах и о Фёдоре, и о принесённых им тревожных известиях всеми нами было полностью забыто.
Первые три класса я проучилась в школе-семилетке №30 Выборгского района, занимавшей несколько квартир во дворе дома №16 по проспекту К. Маркса. Училась я хорошо, на одни «отлично», но именно в этой школе мне пришлось перенести первое серьёзное психологическое испытание. К концу учебного года в первом классе у меня начало развиваться косоглазие – «один глаз на Кавказ, а другой в Арзамас». Офтальмологом Военно-медицинской академии был вынесен вердикт – срочно подобрать ребёнку очки, компенсирующие дефект хрусталика правого глаза, которые будет необходимо носить ежедневно с самого утра и до ночи, пока не окрепнут глазные мышцы.
Начинать учёбу во втором классе я должна была с появления в школе уже в очках. В последние августовские дни 1938 года мои родители начали готовить меня к предстоящему серьёзному испытанию. Мама сказала: «Как только твои одноклассники увидят тебя в очках, они начнут дразнить тебя, называя очкариком или ещё как-нибудь. Если они увидят, что ты обижаешься, начинаешь дуться или будешь плакать, то дразнить тебя будут долго. Поэтому постарайся вести себя так, как будто дразнилки к тебе не относятся, и ты их просто не слышишь, тогда им скоро надоест дразнить тебя впустую». Папа добавил: «А ещё лучше, представь себе, что ты сказочная королева и попала на остров с дикарями. Что королева будет делать? С интересом смотреть на поведение туземцев. Вот и ты веди себя так же, можешь даже улыбнуться в ответ на крики дикарей».
Слышали бы мои родители, какими воплями было встречено моё появление в школе. Первый же из увидевших меня в очках сразу же заорал на весь школьный коридор: «Самурай, самурай! У нас в школе самурай!». К нему моментально присоединилось ещё человек десять, и они, взявшись за руки, устроили вокруг меня хоровод. Только появление дежурной учительницы заставило их расцепить руки, и я смогла добраться до своего класса и положить в парту портфель. В самурая я превратилась потому, что летом 1938 года наши войска разбили японцев у озера Хасан. Все газеты печатали карикатуры, на которых японцы всегда изображались в очках и сабо. Моё «сходство» с самураями усиливалось ещё и тем, что командующий японскими войсками носил фамилию Исии, звучащую очень близко к моей. Даже одна из учительниц спросила меня, нет ли среди моих предков японцев.
Я воспользовалась папиным советом, но решила изобразить не королеву, а посетительницу зоопарка в «обезьяннике», и в ответ на самые громкие выкрики мальчишек старалась им мило, но с долей ехидства, улыбаться. Услышавшая шум и вышедшая в коридор классная руководительница предложила мне отсидеться на большой перемене в классе, но я решила не сдаваться, осталась в коридоре, села на подоконник и стала болтать ногами. Вскоре мальчишкам, дразнящим меня, наскучило их занятие, и их число стало постепенно уменьшаться. Когда раздался звонок на урок, я спрыгнула с подоконника и, проходя мимо замолкшего заводилы, спросила его: «А громче кричать не можешь?». «Фиг тебе, не нанимался!» буркнул он. Мне стало весело. На второй день только несколько мальчишек, проходя мимо меня, напомнили, что я всё ещё самурай. На третий день об этом забыли все. А я до сих пор, вспоминая своё первое испытание, ещё и ещё раз благодарю маму и папу, научивших меня ко многому относиться с юмором и быть выше горьких житейских мелочей, которых так много оказалось потом во взрослой жизни.
Но для учёбы в четвёртом классе мои родители (правильнее сказать, мама) перевели меня в новую школу. Маме непременно хотелось, чтобы её ребёнок, то есть я, учился в самой лучшей, самой престижной, самой «образцовой» школе. Каким образом моей маме в те времена удалось перевести меня в действительно Образцовую школу другого (Петроградского) района, да ещё не одну, а вместе с моей подружкой дошкольного периода, с которой я отказывалась расстаться, мне и сейчас трудно себе представить. Но факт остаётся фактом, весь 1940-1941 учебный год я бегала из дома № 6/8 по Астраханской улице через мост Свободы на другую сторону Большой Невки в школу, находившуюся на Петроградской набережной в здании бывшего Петровского (теперь Нахимовского) училища, строительство которого было завершено в 1913 году перед самым началом первой мировой войной.
Бело-голубое здание школы, в стиле архитектуры петровской эпохи увенчанное башенкой с высоким шпилем, было украшено бронзовым бюстом Петра Первого (по рисункам А. Н. Бенуа созданным В. В. Кузнецовым и А. А. Кудиновым), помещённым в нишу на уровне второго этажа, и большими часами под крышей здания. Оно было спроектировано специально для учебного заведения (в расчёте на тысячу человек) и имело удачную для занятий планировку. Классы располагались по периметру здания, оставляя внутри здания большой «пустой» четырёхугольник, по стенам которого поднималась широкая лестница с выходом к классам на каждом этаже. Стеклянная крыша над лестницей и большим прямоугольным пролётом пропускала солнечный свет, а к перилам лестницы были прикреплены длинные деревянные ящики, заполненные горшками с комнатными растениями. Они полностью выполняли возложенную на них функцию – не давать мальчишкам скатываться по перилам вниз. Но даже при этой мере предосторожности для страховки от несчастных случаев пролёт на уровне второго этажа перекрывала прочная металлическая сетка. На первом этаже находился большой спортивный зал.
Богатейшая библиотека этой школы содержала сочинения многих именитых авторов, писавших для юношества приключенческие и научно-популярные книги. Интересно, что в те времена книги в таком литературном жанре как детективы в детских библиотеках отсутствовали, возможно, что они ещё и не были написаны или переведены. Исключение представляли повести К. Дойла о Шерлоке Холмсе и рассказы прокурора Шейнина о майоре Пронине.
В своё первое посещение этой школьной библиотеки я увидела на стенде с новыми книгами роман Ж. Верна, отсутствовавший у нас дома. На обложке книги трубил, подняв хобот, огромный индийский слон. Мне сразу же захотелось получить и прочесть эту новую книгу. Но, выслушав мою просьбу, библиотекарь отказалась выдать книгу мне, так как Ж. Верн был рекомендован для чтения ученикам, начиная с 6-го класса и старше, а я только начинала учиться в четвёртом. Помню, что я ужасно возмутилась этим и сказала, что уже прочла многие книги этого автора, но вот именно эту ещё не читала и очень, очень, очень хочу ее прочесть. В ответ меня попросили назвать книги, которые я уже прочитала. Внимательно выслушав меня, библиотекарь исполнила мою просьбу и выдала книгу. В тот момент я не могла предположить, что при её возвращении меня ожидает настоящий экзамен – вернув книгу, я должна была кратко пересказать её содержание, ответить, что мне понравилось и что не понравилось, и, кроме того, объяснить почему (интересно, а сейчас такие библиотекари есть?). На своё счастье я этот экзамен выдержала, после него библиотекарь стала спокойно выдавать все книги, которые меня интересовали. Изредка она всё же спрашивала, почему я выбираю ту или другую книгу. Целый учебный год почти каждый вечер один час перед сном я наслаждалась чтением книг, рассказывающих о животных или путешествиях и содержавших множество интересных мне сведений.
В этой школе, кроме детей из обслуживаемого ею микрорайона, училось много отпрысков знаменитых родителей, которые ничем – ни одеждой, ни поведением — не выделялись среди прочих учеников, так как в те времена это считалось просто верхом неприличия. Из них я запомнила только двоих, учившихся не в моём, а то ли в параллельном четвёртом, то ли в пятом классе. Один, длиннорукий и длинноногий, был сыном известного балетмейстера, он произвёл на меня незабываемое впечатление абсолютно белыми волосами и ярко-голубыми глазами, обрамлёнными пушистыми белоснежными ресницами – мальчик-Белоснежка. Я решила, что на следующий учебный год попрошу его посидеть спокойно и нарисую акварелью его портрет. Другой мальчик, сын то ли режиссёра, то ли писателя, снимался в главной роли в фильме “Тимур и его команда”. В кино его герой был очень симпатичным и всем ребятам нравился, а в школьной жизни этот мальчик постоянно был чем-то недоволен и всем грубил, может его раздражало повышенное к нему внимание. Когда я рассказала об этом дома, дядя мне сказал: «Это тебе яркий пример того, что актёр и роль, которую он играет, часто имеют очень мало общего. Актёр, играющий роль Кащея, разбойника или пирата, может быть добрейшим человеком. И, наоборот, играя положительные роли, в повседневной жизни этот человек может оказаться грубияном или вралём, каких свет не видел. Очень надеюсь, что ты не станешь той глупышкой, которая, путая роль и исполняющего её актера, превращается в фанатичную поклонницу примитивного красавчика». Этот совет дядюшки – «не сотвори себе кумира» — я запомнила на всю жизнь.
Можете смеяться, но одним из самых ярких впечатлений о классах этой школы в моей памяти остались парты, столешницы которых почему-то были выкрашены не чёрной, а белой краской. В те времена мы ещё писали чернилами, которые по утрам дежурные наливали в две маленькие чернильницы каждой парты, вставленные в отверстия верхней прямой доски, соединённой с наклонной столешницей. Стоило только случайно (а может и не случайно) сильно толкнуть парту, как чернила из них выплёскивались, и ярко лиловая вертикальная полоса начинала украшать белую поверхность. Почти каждый новый день руководительница класса выясняла, кто виноват в появлении очередной лиловой полосы, а выявленный в результате допросов всего класса виновник, хорошо зная, что ему предстоит долгий и нудный выговор, безрезультатно пытался стереть эту полосу мокрой тряпкой, получая в результате всё новые лиловые разводы. К концу учебного года большинство парт имело непрезентабельный вид. Старшеклассники утешали нас, малышей, тем, что во время летних каникул все парты вновь покрасят белой краской и к первому сентября они будут как новенькие. И всё начнётся сначала.
В этой школе, в отличие от первой, я, на своё счастье, не была единственной, кто носит очки. Поэтому моё появление в очках не вызвало у одноклассников бурной реакции с воплями «Самурай!», но имело печальным следствием то, что меня снова посадили за первую парту в среднем ряду, вплотную примыкающую к учительскому столу. И опять я невольно становилась объектом самого пристального внимания любого взрослого, сидящего за учительским столом. Моим соседом справа стал главный хулиган этого класса Колька Дроздов, очень тощий, очень смуглый и очень драчливый. Я уже имела богатый опыт общения с такими личностями и в нашем дворе, и в старой школе, поэтому в первый же день нашего знакомства выдала Кольке свой ультиматум: «Будешь драться – не дам списывать!». В знак согласия он несколько раз кивнул головой, и мы честно исполняли наше соглашение весь учебный год – он не дрался со мной, а я на диктантах и контрольных по арифметике не только не прикрывала свой текст промокашкой, но старалась расположить тетрадку так, чтобы он мог легко и незаметно списывать. Наши отношения дошли даже до того, что весной Колька хорошо наподдал мальчишке из соседнего класса, подставившему мне ногу и посмевшему дёрнуть меня за косичку.
Новых друзей в этой школе я не завела, класс представлял собой коллектив, сложившийся с первого года учёбы, а мы с Музой были своего рода «пришельцами» из другого мира. Но я сохранила самые близкие дружеские отношения с некоторыми одноклассниками из старой школы. Кроме того, то, что в одном со мной классе училась Муза, с которой мы каждое утро вместе бежали в школу, не давало и здесь ощущения одиночества или отстранённости от нового коллектива. Правда, домой я обычно возвращалась одна, тогда как Музу, она была очень хорошенькой, уже с четвёртого класса начали провожать до дома влюблённые в неё мальчики. Они, болтая, обычно медленно плелись всю дорогу, сперва по набережной, потом по мосту, часто заходили в сквер перед нашим домом. А у меня времени постоянно не хватало. Ещё в старой школе педагоги, увидев, что я, даже слушая учителей, непрерывно рисую фигурки людей и животных на всех свободных бумажках, на промокашках, на обложках старых тетрадей, рекомендовали маме отправить меня учиться живописи в только что открывшийся Дворец пионеров. Мама отвезла меня туда вместе с моими домашними рисунками и меня приняли в изостудию, где преподавала жена известного художника Л. А. Юдина – М. А. Горохова. Занятия в студии проходили 3 раза в неделю, каждое посещение дворца занимало вместе с дорогой не менее четырёх часов, практически весь вечер.
Какое-то время уходило у меня и на новое увлечение – рассматривать в дядин микроскоп, который он недавно купил, всякую мелочь: пыльцу цветов, плесень, насекомых. Дядя, окончив Военно-медицинскую академию и продолжая в ней работу в качестве преподавателя курса по нормальной анатомии человека, неожиданно серьёзно увлёкся проблемами палеонтологии. Все выходные дни он делал шлифы окаменелостей ископаемых ящеров, зарисовывал их при малых увеличениях микроскопа и описывал структуры, используемые в систематике. При изготовлении шлифов он, сидя для контроля недалеко от меня, разрешал посмотреть на что-нибудь интересное мне в микроскоп. В то время я представляла себя в своём будущем только Великим Путешественником и не поверила бы тому, кто сказал бы мне, что с этим прибором будет связана почти вся моя дальнейшая жизнь.
Кроме того, каждый вечер меня ещё ждали уроки, заданные на дом, так как впереди у нас были экзамены. Это сейчас в четвёртом классе экзаменов нет, а в те времена были – диктант по русскому языку и 2 или 3 задачи по математике.
В начале апреля наше семейство пережило большую потерю – неожиданно и совершенно незаметно для всех нас исчез из квартиры всеми любимый огромнейший 13-летний кот Барон фон Пубеншток, внебрачный сын чистокровного ангорского кота Лорда из квартиры на первом этаже и беспородной кошечки Сары, принадлежавшей портному Якову, жившему в квартире напротив нашей. Когда коту было два года, родилась я, и кот сразу же взял надо мной шефство. Если в квартире, по мнению кота, было холодно, он забирался в мою кроватку и ложился рядом, чтобы согреть меня. Когда его вытаскивали оттуда из гигиенических соображений, он царапался, кусался и старался от меня не отходить на длительное время. В результате кот выучил меня ходить уже в восьмимесячном возрасте, за что, как потом рассказывала мама, после демонстрации моих успехов врачам детской поликлиники на неё полчаса кричали все невольные зрители.
Несколько дней подряд мы все поочерёдно обходили дома нашего квартала, звали кота на всех лестницах, у всех чердачных дверей и подвальных окон, заглядывали во все укромные углы дворов, за поленницы дров, даже ворошили сено на конюшне. Всё было безрезультатным. В конце концов взрослые пришли к печальному выводу, что возраст для породистого кота был критическим и он ушел умирать в тихое укромное место. Сильнее всех на потерю кота отреагировали я и бабушка. Бабушка почему-то пришла к заключению, что уход кота спровоцирован предчувствием грядущих бед и теперь в нашей семье начнутся несчастья. Для меня исчезновение кота стало настоящим горем. Я всё время ощущала его потерю, было очень жаль кота, который всегда был рядом со мной, нас связывали такие тесные дружеские отношения и он так хорошо понимал меня.
В большой коммунальной квартире в доме на углу набережной Фонтанки и Щербакова переулка, где жила маленькая бабушка, к маю подросли котята «коммунальной» кошки, одного из них бабушка решила подарить мне, чтобы я перестала горевать о Бароне. В отличие от барственного степенного Барона, одетого в густые меха, имевшего короткие крупные лапы с кисточками и пушистый хвост, котёнок был короткошерстым, длинноногим и тонкохвостым, причём хвост ни секунды не лежал спокойно. В первый же день переселения в нашу квартиру он устроил охоту на всех, проходящих мимо него. Все дальнейшие дни он находился в коридоре либо где-то между шкафами, либо под вешалкой в засаде и как только кто-нибудь выходил из комнаты, вылетал из укрытия и повисал на подоле платья или на брюках своей жертвы. Дядя после нападения котёнка на него сказал: «Прямо не кот, а мессершмит какой-то!». Так он и получил своё имя Мессер.
В эти весенние месяцы родители мои начали усиленно готовиться к летней поездке на Волхов, на время папиного отпуска. Старый дядя папиного друга, Жоржа Алфёрова, до революции был мельником, его водяную мельницу разрушили ещё во времена гражданской войны, и теперь он, оставаясь жить в своём доме на берегу Волхова, занимался только сельским хозяйством – огородом и козами. Этой весной он снова пригласил Жоржа и папу провести отпуск у него и хорошенько порыбачить на Волхове.
Это была не первая наша поездка в те края. Мельник, дядя Яша, как и все, живущие на берегу большой полноводной реки, имел хорошую большую лодку. Поэтому одной из составляющих нашего отдыха на Волхове были экскурсии на лодке вверх и, главным образом, вниз по течению. Однако грести на такой лодке даже двум мужчинам было тяжело, так как обычно плаванье начиналось вниз по течению, к Волховстрою, где были продуктовые магазины, а завершалось возвращением вверх по реке, против сильного и достаточно быстрого течения. Было решено (и согласовано с дядей Яшей) поставить на лодку парус. В книге по парусному спорту был найден чертёж подходящего к такой лодке паруса, он был перенесён на парусину, с которой теперь возилась мама, сшивая воедино на швейной машинке куски выкроенного паруса и подшивая его края. Папа после работы плёл мерёжи для ловли сомов, которых было множество на дне заводины у старой мельницы.
Поездка на Волхов воспринималась мною как настоящее большое приключение, начинавшееся с путешествия по городу до вокзала на грузовой машине и завершавшееся доставкой нас поездом до места назначения. Железнодорожной станцией, самой близкой к дому мельника, было Гостинополье. Но дом мельника находился от этой станции на расстоянии более пяти километров. Получалось так, что в случае нашего выхода из поезда в Гостинополье, затем надо было искать владельца лошади с телегой и просить его довезти вещи и четверых детей (меня и трёх отпрысков Жоржа) до дома мельника. Но телегу с лошадью летом можно было и не найти.
Поэтому наша поездка происходила совсем иначе. И совершалась она так: мы должны были обязательно ехать тем поездом, машинистом которого был другой племянник мельника. В этом случае после завершения нашей посадки в вагон и отправки поезда в путь папа и Жорж шли по вагонам до паровоза, чтобы сообщить машинисту, что мы в таком-то количестве едем в таком-то вагоне. Один раз папа взял меня в такой поход к машинисту, и я, пока шли переговоры о дальнейших совместных действиях, даже постояла минут 5 на боковом «балкончике» паровоза, крепко держась за его перила. Потрясающее впечатление осталось надолго: сильный ветер бьёт в лицо, мир несётся тебе навстречу. Было обидно, когда очень скоро меня стянули вниз и повели обратно в вагон.
Где-то за полчаса до завершения поездки и нашего «выхода» появлялся помощник машиниста, все наши вещи переносили в тамбур вагона, туда же отправлялись и мы. Поезд начинал тормозить, и когда он снижал скорость до минимума, помощник откидывал крышку, прикрывающую вагонную лестницу, спускался на несколько ступенек вниз и начинал «выбрасывать» сначала детей, затем вещи из вагона. Обычно на тропинке, параллельной железнодорожным путям, уже стояли дядя Яша и его жена — тетя Наташа. Самую младшую девочку, Танюшку, они подхватывали на руки, а нас троих (меня и двух сыновей Жоржа, Лодика и Вовку) помощник поочередно брал за шиворот или за руки и опускал вниз, на землю. Затем он помогал спрыгнуть женщинам, сбрасывал вещи, последними из вагона спрыгивали мужчины. Помощник делал несколько взмахов ярким флажком, и поезд вновь начинал набирать скорость.
Вся процедура была отработана и длилась несколько минут, поэтому и сброшенные вещи, и все пассажиры находились на близком расстоянии друг от друга. Оставалось только собрать всё и всех и всем вместе пройти метров 50 через лесок, тянувшийся вдоль железнодорожных путей, перейти через грунтовую дорогу и войти в ворота на участок мельника. Дом мельника стоял на левом высоком берегу Волхова. В конце пологого спуска от дома к реке находилась заводина (использую местное название этого водоема) – почти правильной округлой формы большой водоём, сообщающийся с рекой небольшим проливчиком между двух встречных выступов высокого берега. На правом выступе громоздились развалины каменного строения. При виде их Жорж каждый раз, театрально вскинув руки, начинал петь: «Вот мельница, она уж развалилась», а папа подхватывал: «Печальный шум колёс её умолкнул», на что дядя Яша ворчливым голосом говорил: «А старик-то жив и жив! Иначе к кому бы вы на рыбалку ездили». Так я в первый раз на фоне потрясающих природных декораций познакомилась с одним из актов оперы «Русалка».
В конце мая — начале июня я благополучно сдала оба экзамена. В диктантах меня всегда выручала зрительная память – неправильно написанное слово в тексте начинало выглядеть как-то не так, как остальные. При повторном чтении я «спотыкалась» на этом месте и понимала, что сделала ошибку. На экзамене по математике я успела решить и свои, и Колькины примеры и задачи. Где-то между 15 и 20 июня в школе был назначен большой сбор — торжественная линейка, подведение итогов учебного года и маленький концерт силами старшеклассников. Получив школьную ведомость и убедившись, что по всем предметам у меня стоят отличные оценки (тогда баллов ещё не было), я задержалась в школе, чтобы своими глазами увидеть ритуал, придуманный и ежегодно исполнявшийся, как мне сказали старшеклассники, ещё учениками петровского училища. Ритуал был крайне прост, но труден для исполнения. Старшекласснику, решившемуся на исполнение ритуала, надо было из окна третьего этажа вылить порцию чернил на голову Петра Великого, бюст которого находился в нише второго этажа вблизи от парадного входа в школу. По школьному преданию, проведение полного ритуала сулило исполнителю не только благополучное окончание этого учебного заведения, но и поступление в институт.
Учителя прекрасно знали о готовящейся акции и относились к ритуалу крайне неодобрительно. Я думаю, объяснялось это, в первую очередь, не заботами о бюсте, страдающем от чернил, а боязнью за жизнь учеников, повисающих за окном вниз головой. Именно поэтому педагоги в конце учебного года поочерёдно дежурили в коридоре у дверей класса, из окон которого можно было вылить чернила на бюст. Когда несколько моих тоже умирающих от любопытства одноклассников и я поднялись в этот коридор, нам было предложено немедленно его покинуть и отправиться в собственный класс. Но как раз в этот момент в дверях с лестницы появилась девочка и громко сказала: «Нина Петровна, Вас просят срочно подойти к телефону в учительской». Нина Петровна беспомощно оглянулась, погрозила нам всем – к окнам не подходить — и исчезла. В тот же миг трое старшеклассников ринулось в свой класс, и буквально через минуту их победный вопль известил школу об успешном завершении ритуала. Далее кричали все, не только те, кто был в школе на этом и на других этажах, но и те, кто наблюдал за всем с набережной. Затем мы ворвались в свой класс и длинной цепочкой, один за другим, стали прыгать с парты на парту, дружно выкрикивая: «Вни-ма-ние, вни-ма-ние, на нас и-дёт Гер-ма-ния!» Открылась дверь и классная руководительница, увидев всё это безобразие, крикнула нам: «Вон из класса! Вон из школы! Чтобы я вас всех до осени не видела!». Спрыгнув с парт, мы выбежали на улицу, я оглянулась, чтобы посмотреть на Петра, но чернил на нём не увидела, может быть потому, что сам бюст был тёмным, почти чёрным.
Настроение было прекрасным, я влезла на гранитное ограждение набережной, пробежала по нему до конца, спрыгнула и поспешила через мост прямо домой, так как мне ужасно хотелось и пить, и есть. Когда я переоделась в домашнее, мама неожиданно проявила интерес к моей обуви. Она взяла в руки мои новенькие туфли, в которых я в тот день ходила на школьный праздник, посмотрела очень внимательно на их подмётки и сказала: «Так, я вижу, что сегодня ты, как коза, скакала по парапету. А вниз ты посмотрела? Там всего сантиметров 20 воды, а на дне кирпичи и камни. А если бы ты упала с парапета? Не подумала об этом? Дай мне слово, что это больше не повторится!» Слово я дала, тем более что до возвращения в школу было далеко, впереди было лето, долгожданные длинные каникулы и отдых на Волхове. Но вечером, попросив у дяди большую лупу, я занялась сравнением царапин на подмётках старых и новых туфель. К своему огорчению, как ни старалась, не смогла найти различий в царапинах и понять, как же их нашла мама. (Только несколько лет спустя, уже после войны, я узнала, что мои походы в школу и домой мама контролировала, глядя в большой морской бинокль, но говорить мне об этом считала неправильным, лишающим меня самостоятельности и мешающим развитию у меня самоконтроля).
На следующий день после школьного праздника Музу и её двоюродного брата Вовку Певзнера отправили на дачу, которую родители сняли для них где-то под Лугой, и я осталась в городе одна. Стало скучно, я с нетерпением ждала начало папиного отпуска и поездку на Волхов.
В субботу двадцать первого июня меня отправили спать пораньше, так как грузовая машина за нами должна была подъехать около восьми часов утра и отвезти нас на вокзал к отходу поезда. Папа уже уложил парус в большой рюкзак и теперь сидел и разбирал сети, мерёжи и другие рыболовные принадлежности. В Волхове было много рыбы, но папе и Жоржу чаще всего попадались сомы, иногда до метра длиной. Мама уже сложила в небольшой чемодан постельное белье и носильные вещи, а когда я уходила из их комнаты, она загружала продуктами маленький брезентовый сундучок. Дом мельника стоял на берегу Волхова в одиночестве, никаких других домов и тем более продуктовых магазинов поблизости не было. Съестное можно было купить только в Гостинополье или в Волховстрое, потратив на поездку целый день. Поэтому мама брала с собой по 1-2 килограмма разных круп, муку, специи. Приехав на Волхов, мы у мельника покупали картошку, яйца и козье молоко, папа ловил рыбу, потом созревали ягоды, а с середины июля на крутых склонах левого берега, поросшего маленькими осинками и высокими колокольчиками, можно было найти красные грибы, шляпки которых иногда были размером с суповую тарелку. Как хорошо, впереди так много интересного! И с этой счастливой мыслью я заснула крепким сном.
Июнь. Меня разбудили около семи утра, чтобы успеть накормить до отъезда. В общей сложности поездка на машине до вокзала и потом на поезде до места назначения занимала несколько часов, а в пути всем было не до еды. Не успела я закончить завтракать, как раздался звонок в двери, и я услышала весёлый голос – «Машина подана». Знакомый шофер помог снести вещи вниз. Погода была солнечная, но утренний воздух с легким ветерком был прохладным. Мама страдала тяжелой формой бронхиальной астмы, любые сильные запахи моментально вызывали у неё приступы удушья. Поэтому, чтобы она могла дышать свежим воздухом, мы с ней влезли в кузов «аннушки» и устроились на ящиках, стоявших позади кабины, а папа сел в кабину к шоферу и мы поехали на вокзал.
Не успели мы переехать Литейный мост, как увидели, что идущие по Литейному проспекту люди останавливаются под черными квадратными раструбами уличных репродукторов, образуя под ними небольшие группки. Пока мы ехали по проспекту, людей, стоявших под репродукторами, с каждым разом становилось всё больше и больше. Мама сказала мне: «Приедем на вокзал, надо будет обязательно спросить, что случилось». Машина сделала поворот и на хорошей скорости помчалась по проспекту, в конце которого уже была видна привокзальная площадь. Вдруг с правой стороны улицы из большой группы людей, слушающих радио, к проезжей части дороги вырвалась старая толстая еврейка. Она рвала на себе волосы, и они тяжелыми седыми прядями повисали ей и на лицо, и на спину. Ничего не видя, она шагнула с панели прямо на проезжую часть дороги. Машины гудели, резко тормозили и останавливались, наша машина затормозила тоже. Теперь мы услышали, как она громко кричит: «Вай-вай-вай, нас теперь всех убьют, нас теперь всех повесят» — и опять, без перерывов: «Вай-вай-вай…». Папа выскочил из кабины, крикнув нам с мамой: «Пойду, узнаю, что там такое». Через минуту он вернулся, очень бледный, что-то сказал шоферу, потом крикнул нам: «Война! Немцы уже бомбили наши города. Срочно возвращаемся домой». Мама согласно кивнула, но чтобы поскорее отпустить убитого новостью шофера и машину, предложила заехать и оставить наши вещи у своих родителей (маленькой бабушки и дедушки), дом которых на углу набережной Фонтанки и Щербакова переулка был расположен сейчас значительно ближе нашего.
Приехав на набережную Фонтанки, мы выгрузили наши вещи у подъезда и еще на улице, не входя в дом, услышали доносящиеся из открытых окон бабушкиной комнаты громкие голоса спорящих людей. Когда мы поднялись на второй этаж и вошли в квартиру, в бабушкиной комнате было человек 15. Кроме двух маминых братьев, Виктора двадцати восьми и Шурика двадцати четырёх лет, на стульях, ручках кресел и на подоконниках сидели их школьные друзья и товарищи по работе. Основной темой громкого спора всей этой компании стали предполагаемые сроки, за которые немцы будут полностью разбиты и уничтожены. Одни, самые ярые оптимисты, говорили, что для этого будет достаточно двух месяцев, другие, менее оптимистичные, настаивали на том, что за два месяца управиться с немцами всё же будет трудно, воинская практика у них уже большая, но полностью покончить с ними наверняка удастся к новому году.
За столом, уставленным чайной посудой, сидели расстроенная заплаканная бабушка и мрачный дед, кончики «кайзеровских» усов которого воинственно торчали вверх. Слушая спорящих, он нервно постукивал пальцами правой руки по столу, и вдруг, когда обе стороны особенно громко заорали каждая своё, ударил кулаком по столешнице с такой силой, что все чашки со звоном подпрыгнули, ложки в них жалобно звякнули, а спорящие мгновенно умолкли. И в этой тишине дед резко сказал: «Дурачьё вы, молодое и бестолковое, что такое война – не представляете, с немцами не воевали. А я воевал и видел их в бою. Не пошли бы они на нас, если бы силу свою не чувствовали. Меньше двух лет война не будет, хорошо, если и за два года её удастся закончить». На это Виктор беззаботно махнул рукой: «Ну, отец, сказать такое! Пошли, ребята, на улицу, а то здесь и поговорить толком не дают». И вся компания собралась и дружно высыпала на набережную, перешла на другую сторону дороги и, помахав оттуда всем нам, оставшимся дома и стоящим у окна, направилась вдоль Фонтанки к Невскому проспекту.
Опережая события, должна сказать, что из всех членов этой весёлой и дружной компании к концу войны в живых осталось только двое – Виктор, провоевавший всю войну командиром пулемётной роты и дважды тяжело раненный, и Сергей, который в армии сумел попасть в отдел снабжения боевых частей продовольствием и избежать таким образом и непосредственного участия в боевых действиях и голода.
Поздним вечером мы вызвали такси и поехали домой. Папа сел рядом с шофером, а мы с мамой на заднее сиденье. Я сразу задремала (встала рано и столько событий за день) и сквозь дремоту услышала, как папа, обернувшись назад, сказал маме: «Вспомнила Фёдора? Начало войны между двадцатым и двадцать пятым июня? Сегодня как раз середина», Что ответила мама, я уже не услышала, так как крепко спала.
В связи со стремительным наступлением вражеских войск в последних числах июня началась подготовка к эвакуации из города гражданского населения, крупных предприятий и музеев. Встал вопрос и о формировании подразделений народного ополчения.
Июль 1941 года в Ленинграде был необычайно жарким. Наша квартира, находившаяся на последнем (четвёртом) этаже, прогревалась от крыши так, что и ночью от жары и духоты даже при открытых окнах спать было невозможно. Положение усугублялось еще и тем, что под нашими окнами почти вплотную к стене дома стояло одноэтажное здание общественной прачечной, от металлической крыши которого струился вверх фонтан горячего воздуха. Отсутствовали даже всегда облегчавшие нашу жизнь потоки прохладного влажного воздуха, приносимые западным ветром с залива и Невы. Помню, что пытаясь спастись от жары, я сползала с кушетки и устраивалась спать на полу. Постелив простыню на газеты, уложенные на прогретый солнцем деревянный пол, я ложилась спать, ничем не покрываясь, но даже такой способ не спасал меня от ночной жары и не давал возможности нормально уснуть.
Над городом повисли аэростаты, их присутствие в небе стало тревожным сигналом, говорящим о возможности налётов немецких самолётов на город и бомбёжек. Даже в самом непривычно жарком и душном воздухе ощущалась всеобщая тяжёлая тревога. В продуктовых магазинах стояли длинные многочасовые очереди, выходящие далеко за пределы помещений на улицы. Люди стояли в несколько рядов, кто-то прислонялся к стене, остальные переминались с ноги на ногу. Продукты покупали, правильнее сказать скупали, и уезжающие из города, и остающиеся в нём. К концу дня в магазинах исчезало почти всё, что было на прилавках.
По радио передали выступление председателя Верховного Совета М. И. Калинина. Он говорил, что нельзя верить паническим слухам о возможном голоде, что продуктов у нас достаточно, перебоев с ними и голода не будет, но каждого, кто будет сеять панику и скупать продукты, будут судить по законам военного времени. Когда рано утром папа собрался на работу, мама тоже оделась, взяла сумку и кошелёк. Папа спросил: «Ты куда?», «В магазин. Пойду, куплю что-нибудь съестное на сегодня, надо что-то и впрок купить», «Очень прошу тебя, не поддавайся панике, не ходи, ты же слушала радио». Он взял из маминых рук сумку, положил её на столик у входных дверей и ушёл. Мама осталась стоять в коридоре, прислушиваясь к звукам, доносившимся с лестницы, дождалась, когда хлопнула дверь парадной, подождала ещё немного, взяла сумку и помчалась в магазин к его открытию. Там уже стояла длинная очередь. Вернулась мама только во второй половине дня. Когда подошла её очередь, магазинные прилавки были совершенно пусты и ей достался только пакетик картофельного крахмала. В середине июля ввели карточки на все продукты и очереди исчезли.
Наш дом стоял в той части Выборгского района, которая у коренных петербуржцев называлась Правлянкой и была ограничена Невой и Большой Невкой, Сахарным переулком и проспектом К. Маркса (теперь снова Сампсониевским проспектом), на противоположной нечётной стороне которого стояли здания Военно-медицинской академии. Когда-то здесь на берегу Невы находились провиантские склады двух конных полков и морского госпиталя, возникшее в народе название Провиантка постепенно в разговорном языке превратилось в Правлянку. Я помню, что многие письма, приходившие папе или маме от их друзей, разъезжавших перед войной по всей стране, начинались со слов: «Привет Правлянке!» — или — «Привет правлянцам!». Наш дом был последним из череды доходных домов, выстроенных по заказу известного петербургского домовладельца Колобова. Незадолго до первой мировой войны его начали строить англичане на месте деревянных домов, окружённых садами и огородами. Достраивался же он в 1914 году, уже во время начавшейся первой мировой войны, и представлял собой строительную достопримечательность, так как был в Петербурге первым жилым домом не с деревянными, а с железобетонными перекрытиями. Кроме того, он был выстроен в том же свойственном городу архитектурном стиле, что и стоящее на противоположном берегу Большой Невки здание Петровского училища. Оба здания, увенчанные башенками, несущими шпили и похожий на глобус шар, создавали эффект единого архитектурного пространства, свойственного петербургским ансамблям (своего рода пропилеи у входа в устье реки). К сожалению, это не помешало в 1969 году снести наш дом, заменив его казённым зданием гостиницы «Санкт-Петербург» (ранее «Ленинград»).
Недалеко от дома, в двадцати минутах ходьбы пешком, находился Финляндский вокзал, за Сахарным переулком вплоть до Гренадерской улицы стояли заводы шведов Нобелей и другие промышленные предприятия, на которых до революции работало много иностранцев и приезжих из других регионов России. Поэтому национальный состав жильцов нашего дома кроме русских включал финнов, эстонцев, евреев, карелов, поляков, шведов, латышей и даже немцев и цыган. Пишу в предполагаемом мною порядке убывания их численности. Говоря на русском языке с сильным акцентом, многие из них по паспорту числились уже русскими, так как родились в России, а их акцент был следствием другой артикуляции «домашнего» разговорного языка, свойственного их родителям. Во дворе и в сквере перед домом гуляли близкие мне по возрасту два Вовки, Юрка, Нинель, Марина, Иришка, Оскар, Гарик, Муза, дошколята Эдик, Адольф, Вейно, Ирья и ещё множество мелюзги, имена которых были присущи национальностям их родителей.
На дверях нашей квартиры над медной прорезью для писем была прибита очень красивая, украшенная по углам узорами из цветов и завитулек латунная табличка, по центру которой красивыми латинскими буквами было выведено Johannes Issi. Это было имя моего прадеда, поселившегося в Санкт-Петербурге ещё в середине девятнадцатого века и работавшего на предприятиях Нобеля. На второй или третий день после объявления войны табличка исчезла, к моему глубокому сожалению, навсегда. Все мои «подпольные» поиски таблички в папиных ящиках с инструментами или с красками были напрасными. Вероятно, её открутил и выбросил папа, хорошо усвоивший уроки тридцать седьмого года.
Мужчины нашего дома были представлены рабочими и мастерами, в основном очень высокой квалификации, и интеллигенцией: врачами, учителями, бухгалтерами и экономистами. Дополняли этот состав один портной, один фармацевт (папа Музы) и семьи промысловых рыбаков и старшего дворника. Двое были военными врачами и преподавали один — в Военно-медицинской академии, другой – в Военно-морской медицинской академии (мой дядя), трое были курсантами ВМА. Большинство женщин после замужества оставались домохозяйками, кроме трёх ярких личностей – заведующей детским садом, эстрадной певицы и актрисы театра Радлова. Ещё несколько женщин подрабатывали в торговле или в столовых. В большинстве семей было по одному ребенку, но в нескольких семьях, главы которых были рабочими низкой квалификации, было по 4-6 маленьких детей. Устроить детей в ясли или детский сад перед войной было почти нереально, аборты были запрещены, женщине от такой семьи на работу было не уйти, работал только муж, поэтому и в мирное время жили они очень трудно, часто впроголодь.
Несколько женщин нашего дома с детьми дошкольного возраста уехали из города на отдых к родственникам в деревню, как только потеплело, ещё в мае, до начала войны. После объявления войны быстрее всех собрались и уехали в родные места недавние горожане (в основном, приехавшие в город на заработки или бежавшие из деревень в период коллективизации) и те, кто каждое лето ездил в деревню к родственникам после окончания у детей школьных занятий. Затем некоторые семьи в полном составе эвакуировались вместе с предприятиями, на которых работали главы этих семейств. Стали готовить к эвакуации и детские учреждения – школы и детские сады. Почти полностью остались в нашем доме все многодетные семьи, главы семейств которых были мобилизованы буквально в первые же дни войны, уже в июне. У женщин, имевших несколько маленьких детей, не было умения хлопотать на работе мужа о своём отъезде из города и не оставалось ни сил, ни средств, чтобы самим организовать этот отъезд. К тому же многие из них были родом из Белоруссии или западных районов, граничащих с Финляндией или Эстонией, где уже шли бои, и куда выехать практически было невозможно.
Весь июль город жил потрясающе активной жизнью. Горожане (кто работал) днём ходили на работу, вечерами чистили чердаки, превращали подвалы в бомбоубежища, в скверах, садах и парках рыли и строили крытые траншеи, посещали курсы ПВО, где их обучали способам тушения зажигательных бомб и мерам защиты от химических отравляющих веществ. На медицинских курсах, которые посещали мама и тётя, женщин обучали оказанию первой помощи раненым и контуженым. Дядя, придя домой, дополнял полученные ими уроки приёмами, позволяющими при тяжелых ранениях максимально сокращать потерю крови.
Целые дни дома оставались только мы с бабушкой. Но мы тоже не сидели, сложа руки, а выполняли выданное нам ответственное задание – наклеивали на оконные стёкла пяти окон нашей квартиры полоски газетной бумаги. Я по линейке резала газету на полоски, смазывала их сваренным из муки клеем, а бабушка, стоя на табуретке, наклеивала полоски крест-накрест на наружную сторону стекла. Считалось, что эти полоски не дадут стёклам, выбитым из рам взрывной волной, разлететься на мелкие осколки.. Правда, когда начались бомбёжки и обстрелы, оказалось, что воздушная волна при разрывах и бомб, и снарядов одинаково легко выносит из рам как оклеенные, так и не оклеенные бумагой стёкла, а иногда вместе со стёклами выносит и сами рамы.
В первые же дни войны вышел приказ — для предотвращения возникновения пожаров от зажигалок срочно очистить чердаки всех домов от деревянных перегородок и занести туда мешки с песком и ёмкости с водой. Весь объём этих работ выпал на долю неработающих женщин, домохозяек, которых до войны в городе было значительно больше, чем в настоящее время. В нашем доме было 4 лестницы, каждая из них завершалась своим чердаком, но так как на каждой лестничной площадке было по 4 квартиры, чердак имел 4 чердачных отделения, разделённых между собой, как и квартиры под ними, каменными капитальными стенами. Кроме того, так как дом был 4-этажный, каждое чердачное отделение дополнительно делилось мощными дощатыми перегородками еще на 4 секции в соответствии с количеством обслуживаемых квартир. Поэтому главной задачей, поставленной перед женщинами нашего дома, стало разбить деревянные перегородки на отдельные доски и спустить эти доски вниз. Первые день или два прошли практически без результатов. Перегородки англичанами были сделаны на совесть, мало кто из женщин держал в руках топор или колун, поэтому выбить отдельные доски из плотно сбитого массива перегородок им не удалось. Стащили вниз, во двор, грохоча по ступеням лестницы, только сорванные с петель двери и мелкий мусор.
Вечером, когда папа пришёл с работы, его, вся в слезах от обиды за бестолково проведённый день, встретила мама. Выслушав её, папа вместе с ней пошел на чердак, чтобы самому ознакомиться с фронтом порученных женщинам работ. И, как потом говорила мама, объяснил ей, что и как необходимо делать, в том числе и откуда следует начинать разборку перегородок. Когда на следующий день на чердак снова пришли женщины, за организацию работ стихийно взялась мама. Она предложила женщинам разделиться на три бригады, чтобы в течение дня каждые 2-3 часа сменять друг друга на работах, требующих разных физических усилий. Дело пошло быстрее, доски поочерёдно стали выбивать ломами и колунами, их перестали таскать на руках вниз, как выносили двери два первых дня, а стали просто аккуратно спускать в широкий пролёт лестницы, выставив дежурных внизу, на первом этаже, чтобы никто не пострадал от падающих предметов. Кроме досок на чердаках оказалась масса всяческого хлама (старая мебель, ящики, корзины, старая одежда и тряпки, мумии кошек, крыс и голубей), при его сборе и выносе в воздухе на чердаке постоянно стояло густое терпкое облако пыли, попав в которое непрерывно чихали все. Но произошла удивительная вещь, можно даже сказать «чудо» – с того момента как объявили войну и до самой маминой смерти у неё больше не было ни одного приступа астмы.
Результатом маминой активности стало то, что после очистки от досок и хлама в относительно короткие сроки всех четырёх чердаков нашего дома, маму вызвали «наверх» и ознакомили с приказом, согласно которому она назначалась начальником группы самозащиты нашего микрорайона (именно начальником, а не командиром, как написано в книге Д. Гранина и О. Адамовича, посвящённой блокаде). Маминым замом и тоже начальником, но группы пожарной охраны, стала Татьяна Ефимовна Пуртагон, огненно рыжая женщина с огромными зелёными глазами, похожая на знаменитую балерину Плисецкую как ее двойник или родная сестра. До войны она «убивала наповал» многих жительниц нашего (и не только нашего) дома своими нарядами с международных выставок, куда их отправлял или куда ездил её муж, занимавший важную должность в торговых верхах города. По мере развития дальнейших событий у меня создалось впечатление, что как у неё, так и у моей мамы либо отсутствовало чувство страха, либо они умели его скрывать от других людей. Что бы ни случалось, а в блокаду случалось многое – у них никто не видел никаких проявлений паники, сразу следовали мгновенные команды по дальнейшим действиям. Их слушались беспрекословно, в их команде по их вине не погибло ни одного человека.
Группы самозащиты, представляя собой добровольные объединения гражданского населения, выполняли самые разнообразные функции при обороне города. Тушение зажигалок и вызванных ими местных пожаров, вынос раненых с улиц во время и после обстрелов, оказание первой медицинской помощи и отправка живых в больницы или госпитали, вынос трупов из квартир, сбор их на улице и перенос в определённые места для дальнейшей транспортировки, снос деревянных домов, сараев и других построек на дрова — всё это входило в их обязанности. В отличие от отрядов МПВО они не были военизированы, не получали дополнительных пайков, их обязанности не были ограничены чёткими рамками. Они делали всё, что могли, и им поручали всё, что только можно и даже больше возможного.
Большинство оставшихся в городе женщин работало с энтузиазмом, не только не отказываясь от любых поручений, но постоянно предлагая какие-то новые решения. Поэтому все были поражены, когда нашлись две молодые, физически крепкие женщины, которые на призыв помочь с чисткой чердаков с вызовом заявили, что они лично немцев не боятся и поэтому ничего на чердаках делать не собираются. Когда уговаривать их принялся управдом, они обругали его и заверили, что он будет первым, кого они с удовольствием повесят при сдаче города немцам, тем более что виселица для этого уже готова, и показали на пустырь. Все онемели и растерялись от такого яркого проявления ненависти ко всем нам. Потом нашли объяснение в том, что они явно не были коренными жительницами нашего города, относились к числу недавно приехавших, о чём говорил их сильный провинциальный выговор, что с них возьмёшь. Вероятно, они почувствовали, что в разговоре перешли дозволенные границы, и к всеобщему облегчению всех жильцов нашего дома через несколько дней отправились в свою родную деревню.
Эта история имела своё продолжение. У нас напротив первого подъезда на пустыре была спортивная площадка. На поперечине между двух столбов висели верёвочная лестница, канат и длинный шест, на которые постоянно карабкались мальчишки из всех окрестных домов. Действительно, преобразовать этот спортивный снаряд в виселицу стоило пару пустяков. Каково же было всеобщее удивление, когда на следующий день на месте этого спортивного сооружения ничего, кроме двух коротких деревянных пеньков, не было. Никто не видел, кто и когда спилил эти толстые бревна, так напомнившие провинциалкам виселицу. Управдом удивлялся вместе со всеми. Только осенью сорок третьего года, в день отправки на фронт, он сознался в узком кругу слушателей, что сам глубокой ночью спилил столбы. «Я решил, что даже если немцы придут и начнут нас вешать, пусть сами и строят виселицу, а не рассчитывают на всё готовенькое!»
К середине июля подвал под второй квартирой первого подъезда срочно переоборудовали в бомбоубежище. Вынесли во двор все дрова, сняли все дощатые перегородки, разделявшие квартирные сараи. В свободном помещении поставили дополнительные подпорки от пола до потолка в виде колонн из кирпичей, ими же заложили окна, входную дверь сделали из двух металлических листов, пространство между которыми тоже заполнили кирпичами. Арку, соединяющую два подвальных помещения, заложили несколькими рядами кирпичей. Заканчивали работы монтажом освещения и установкой вентилятора в одном из заложенных кирпичами окон. Завершающим актом оборудования бомбоубежища стало размещение в подвале скамеек без спинок вдоль стен и рядами по центру помещения.
Не менее важным этапом оборонительных работ, которые так же, как и преобразование подвалов в бомбоубежища, выполнялись при участии сотрудников МПВО, было рытье траншей. Наш дом имел два крыла в форме печатной буквы Л, вертикали которой, слегка расходясь в стороны, ограничивали с трех сторон большой двор. Основание буквы перекрывалось двухэтажным домом, плотно прилегавшим к торцу нашего четырёхэтажного дома. В самой широкой части двора летом функционировала волейбольная площадка, где играла молодёжь не только нашего, но и соседних домов. К зиме на месте волейбольной площадки вырастали поленницы дров, отопление во всех наших домах было ещё печное.
Кем-то было принято решение одну из траншей выкопать во дворе нашего дома, но при этом не в широкой, а в самой узкой его части. И тут, когда глубина траншеи превысила метр, начались удивительные открытия. Каждый день рабочие откапывали шлемы, кольчуги, рукоятки мечей, а также черепа и кости их владельцев. Был ли этот участок, где стоял наш дом, позабытым всеми местом битвы или кладбищем воинов, погибших в сражениях, никто не знал. Стали звонить в Эрмитаж и Русский музей, просили прислать сотрудников, чтобы те отобрали и увезли наиболее интересные находки. Но там было не до нас и не до новых находок, они срочно упаковывали свои музейные сокровища. Самый большой восторг эти находки, особенно шлемы и оружие, вызывали у мальчишек нашего и окрестных домов, все призывы взрослых не трогать выкопанные предметы, сложенные горкой в одном из дальних углов двора, пропускались ими мимо ушей. Постепенно, вследствие продолжавшейся эвакуации, ребят во дворе становилось всё меньше, а шлемы и кольчуги продолжали сиротливо лежать в углу двора у прачечной. Позже всем стало не до них.
Через некоторое время кто-то, несомненно более опытный, чем предложивший копать траншею во дворе, сообразил, что такое укрытие между двух близко расположенных зданий скорее всего станет братской могилой при попадании бомбы в любое крыло дома, и траншею по его приказу засыпали. Вместо неё выкопали траншеи на спортивной площадке и в сквере, расположенном между крылом нашего дома по Оренбургской улице и Большой Невкой, и сделали их крытыми. Первые месяцы войны в сквере стояла зенитная батарея, но когда в Неву и Большую Невку вошли корабли Балтийского флота, эта батарея «переселилась» на большие катера ближе к подводным лодкам.
Каждое крупное домохозяйство имело помещение с телефоном для связи круглосуточно дежуривших сотрудников домохозяйства и членов группы самозащиты с различными службами. Ночью обычно дежурили по двое: один записывал сообщения, поступающие из центра ПВО или других организаций, второй, в случае необходимости срочных действий, должен был оповестить население о воздушной тревоге. В помещении находилась сирена, которая при вращении её ручки дежурным издавала препротивный тоскливый вой, разносившийся на большое расстояние и сообщавший всем о возможном начале бомбёжки и о необходимости срочно спуститься в бомбоубежище. Старая дворничиха, похожая по моим представлениям на старуху Изергиль, при первых же звуках, издаваемых сиреной, сплёвывала через левое плечо и говорила: «Нечистая сила!»
Трагические события начавшейся войны затронули и мир домашних животных. Многие в доме имели собак, но взяли их с собой только те, кто уехал на дачу или в деревню ещё до начала войны. Остальных вывели на улицу, сняли ошейники и быстро ушли, предоставив их самим себе. Про кошек просто забыли, и они после отъезда своих хозяев при опечатывании пустых квартир были выкинуты во двор и теперь прятались по подъездам и подвалам. Одну молодую, месяцев четырёх, кошечку удивительной красоты подобрала мама и принесла к нам домой. Мы назвали её Маркизой. Она сразу же подружилась с Мессером, и они развлекали всех нас непрерывными играми. Актриса театра Радлова, уехавшая в мае на гастроли по Украине и взявшая с собой шестилетнюю племянницу, оставила сестре, живущей вместе с ней в одной квартире, своего щенка — рыжего Бимку. Бимка любил весь мир и всех людей, во время прогулок он прыгал вокруг нас и старался облизать каждого, кто обращал на него внимание. Мы ещё не знали, что всем им осталось жить только несколько месяцев.
В июле в нашей семье произошло три важных события. Во-первых, моя школа пригласила маму на родительское собрание по поводу срочной эвакуации учеников, во-вторых, папу с другими сотрудниками Ленжилснаба, в котором он работал, отправили на рытьё противотанковых рвов на Лужском рубеже, и, в-третьих, мобилизовали и отправили на курсы подготовки младшего командного состава старшего из маминых братьев, Виктора. Далее обо всём по порядку.
Мама вернулась из школы с длинным списком документов и вещей, которые нужно было собрать и отправить с каждым эвакуируемым ребёнком. Когда мама собрала мои и летние, и зимние одёжки и обувь, получилась большая куча вещей — они заняли почти половину наматрасника, использованного мамой в качестве вещевого мешка. На красно-белый полосатый наматрасник мама пришила прямоугольник белого материала, на котором чернильным карандашом написала мои имя, фамилию и ленинградский адрес. Папа с несколькими сотрудниками и сотрудницами уже был под Лугой, от него не поступало никаких известий и маму очень огорчало, что я должна была уехать, не попрощавшись с ним.
В конце июля в назначенные для отъезда день и час мы с мамой приехали на вокзал. Нашли поезд. Вагоны, в которых нас должны были везти в Северный Казахстан, оказались обычными дачными вагонами. При входе в вагон стояла незнакомая мне учительница, которая нашла меня в длинном списке и отметила мой приход. Мы вошли, на скамейках сидело много ребят разного возраста, но моих одноклассников среди них не было. Багаж – чемоданы и мешки – были свалены под скамейками или между ними. Посадка давно закончилась, время отправления прошло, но паровоз к вагонам всё не прицепляли. Прошло более двух, затем трёх часов от назначенного для отбытия времени. Мама не выдержала, вышла и попыталась выяснить, чем вызвана такая задержка. Наконец после долгих поисков ответственных за эвакуацию, кто-то из учителей сказал ей, что по дошедшим до них слухам нашего машиниста призвали в армию, и ему сейчас ищут замену. Прошёл еще час, поезд по-прежнему стоял у вокзального перрона. Вдруг мама решительно встала, взяла мои вещи и сказала: «Всё, пошли домой». При выходе из вагона нас попыталась задержать учительница: «Мы же увозим детей от войны, город наверняка начнут бомбить, Ваша девочка может погибнуть». Но мама была непреклонна: «А я за это время пришла к выводу, что как мать смогу сделать больше вас, и сделаю всё необходимое, чтобы мой ребенок не погиб. Ну а если нам суждено погибнуть, то лучше, если мы погибнем вместе». Меня вычеркнули из списка, мама написала расписку, что всю ответственность за отказ отправить ребенка в эвакуацию берёт на себя, и мы отправились домой. Бабушка и тётя обрадовались моему возвращению, они были абсолютно согласны с мамой в том, что больше матери сделать для ребёнка не сможет никто.
В конце августа мы случайно встретили маму одного из ребят, отправленных этим поездом. И узнали от неё, что на одной из узловых станций, кажется, на Мге, несколько пассажирских поездов с эвакуируемыми детьми было остановлено, чтобы пропустить воинские эшелоны в сторону фронта. Началась бомбёжка, многие вагоны загорелись. Ребят успели вывести из поезда, они кинулись в заросли кустарников вдоль железнодорожных путей. Когда вернулись на станцию после бомбёжки, состав был разбит, многие остались без вещей, сгоревших в вагонах. Никто из сопровождающих не смог организовать их возвращение домой. Жители ближайших деревень разобрали потерявшихся школьников из разбомблённых поездов по своим домам. Когда родителям сообщили об этом, они кинулись разыскивать в ближайших к железнодорожной станции деревнях своих детей, не зная даже толком, жив их ребенок или погиб. Слушая её рассказ, я поняла, как крупно мне повезло, что мама забрала меня из того поезда.
В это время из-под Луги, где родственники и родители Музы снимали дачу, вернулась в город она сама с мамой и двоюродным братом Вовкой Певзнером, бывшим года на два моложе нас. Этот мальчик был кладезем талантов – писал великолепные стихи, успешно сражался в шахматы даже с взрослыми шахматистами. Они оба, и Муза, и Вовка были полны военных впечатлений, они уже видели летавшие над деревней немецкие самолёты со свастикой, видели и слышали, как они в кого-то на окраине Луги стреляли. Размахивая руками, Вовка рассказывал, что один немецкий лётчик летел так низко, что они разглядели его физиономию и показали ему язык.
Через несколько дней Вовка вместе с мамой уезжал из города. Накануне отъезда он приехал попрощаться с Музой, а я в это время как раз была у неё. Как-то очень грустно (глаза, полные слёз)и по-взрослому он начал мне объяснять: «Понимаешь, папа у меня еврей, я весь в него, мы с мамой обязательно должны уехать отсюда подальше» и добавил: «Может, ещё когда-нибудь и увидимся». Я же ему сказала: «По-моему ты просто трус, потому и бежишь». Он даже не обиделся, в ответ только как-то безнадёжно махнул рукой: «А, ты просто ещё маленькая и ничего не понимаешь!». На этом мы с ним и расстались.
После окончания войны он вернулся в Ленинград. Окончив институт, начал преподавать литературу в школе. И вдруг, довольно неожиданно для всех нас, превратился в комедиографа В. Константинова, использовав для писательского псевдонима свое отчество Константинович. В нашем Театре комедии, соседе Елисеевского магазина, многие годы шли его пьесы, написанные совместно с другим автором, Борисом Рацером. Встретив его на дне рождения Музы, я спросила: «Слушай, с чего это ты вдруг стал Константиновым?». Он весело ответил: «А как ты думаешь, кто у нас смог бы вынести на афише такое сочетание авторов как «Рацер и Певзнер»? Да ещё и поставить их пьесы?» Наши пути разошлись ещё в юности, но я всегда с удовольствием вспоминаю весёлого и остроумного мальчишку, Вовку Певзнера.
В конце июля в городе начали бродить слухи, что немцы уже под Лугой и даже, возможно, захватили её. Время шло, но папа всё не возвращался, и никаких известий от него по-прежнему не было. В это время с его работы маме позвонила бухгалтер, которая была в дружеских отношениях с нашей семьей, и сообщила, что директор принял решение продать служащим фураж, хранившийся на складах и в магазинах организации, он лежал там мёртвым грузом, так как лошадей из всех домохозяйств забрали в армию. Мама моментально собралась и поехала. Часа через два она вернулась из Ленжилснаба без фуража и разъярённая, как фурия. «Вы представляете – рассказывала она всем нам — В присутствии группы сотрудников секретарь парторганизации начал кричать на меня: «Как вы посмели сюда явиться?! Ваш муж перешёл к немцам, а Вы ещё хотите что-то получить от нас! Ничего не получите!». Ну, я ему тоже при всех сказала всё, что думаю о нём (нечего отсиживаться в тылу, когда другие воюют), и добавила, что моего мужа немцы могли убить (нет, нет, я в это не верю), но он к ним никогда не перешёл бы. И при выходе из кабинета как хлопну дверью! Потом, пока шла по коридору, меня догнала бухгалтер и сказала, что не вернулась вся посланная под Лугу группа сотрудников, а не только Вик, и парторг так грубил потому, что до смерти боится получить за это выговор или что-нибудь ещё похуже». Прошло ещё несколько дней, а папы всё не было. Мама беспокоилась всё больше, так как в очередях и транспорте говорили уже о многих раненых и убитых среди тех, кто рыл окопы под Лугой.
Когда через несколько дней ранним утром раздался звонок в двери, услышав и узнав переливы колокольчика, мама сразу крикнула мне: «Папа вернулся!». И, действительно, когда мы открыли двери, на площадке лестницы стоял папа, загоревший до черноты, тощий, без вещей, только пачка документов в нагрудном кармане куртки. «Где ты был так долго? — спросила мама — Мы все тут головы сломали, куда ты мог деться. Твой парторг тебя даже служить к немцам отправил!». «Сначала накормите – потом допрашивайте. Пока не поем – ничего рассказывать не буду, даже под пытками. Последние 3 дня мы вообще ничего путного не ели, кроме лесных ягод, да ещё в одном посёлке нам на всех дали половинку хлеба». Бабушка отправилась на кухню и стала разогревать кашу, мама поставила на керосинку чайник. Поев и выпив крепкого чая, папа рассказал следующее.
Для выполнения оборонного задания, которое заключалось в рытье противотанковых рвов, папа и несколько женщин из Ленжилснаба были отправлены на участок в 2-3 километрах от штаба, руководившего всеми этими работами. Вместе с большой группой людей самого разного возраста, от школьников до пенсионеров, они целыми днями копали глубокий длинный ров и выносили вёдрами наверх землю, делая небольшие перерывы на обед или при налётах немецких истребителей, от которых прятались в ближайшем лесу. Спали у местных жителей на верандах и в сараях. Иногда приезжала походная кухня с кашей, но в основном жили на бутербродах — в ближайшем посёлке был продуктовый магазин. Немецкие самолёты почти ежедневно сбрасывали издевательские листовки: «Дамочки! Не ройте ямочки, всё равно по ним пройдут наши таночки!». В свою очередь землекопы, в основном представленные ленинградской интеллигенцией, издевались над стилистикой немецких посланий.
В первое время участки ежедневно обходил штабной проверяющий, контролирующий состояние выполненных работ и дающий задание на дальнейшие дни. После того, как в течение двух или трёх дней проверяющий не появился, а канонада и винтовочная стрельба стали слышны уже со стороны города, папа предложил послать в штаб «на разведку» самую молоденькую сотрудницу – «одна нога там, другая здесь», чтобы узнать, что случилось.
Когда девушка добежала до дома, где размещался штаб, там уже никого не было, на вешалке болталась забытая одежда, на столе сиротливо стояла брошенная пишущая машинка. Всё говорило о том, что отсюда люди бежали в панике, не вспомнив о горожанах, поставленных ими на рытьё окопов и противотанковых рвов. Узнав от вернувшейся девушки эту страшную новость, многие женщины начали метаться и плакать. Большинство копавших рвы людей было типично городскими жителями, не умеющими ориентироваться на местности и не представлявшими даже, в какой стороне находится город и куда им надо идти, чтобы вернуться в Ленинград. Их ужасала также перспектива длинного, более 100 км, пешего перехода то по заболоченной, то по лесистой местности, но их ждали в городе старые родители и дети. К группе, старшим в которой был папа, присоединилось ещё несколько человек, копавших окопы рядом, образовался коллектив примерно из двадцати-двадцати пяти человек, решивших держаться вместе.
Фактически перед ними стояла задача выбраться из окружения, в которое они невольно попали, ведь между родным городом и той местностью, в которой они копали рвы, уже находились немецкие части. Организацию вывода группы пришлось взять на себя папе. Опытный рыболов и охотник, он хорошо знал область, особенно Лужский район, где сразу после революции работал в детском доме. Кроме того, по привычке, собираясь в любой поход, всегда вооружаться компасом, папа не забыл взять его с собой, отправляясь на рытьё окопов. Принимая во внимание уже известный им факт, что немецкие части, машины и мотоциклы передвигались, в основном, только днём и преимущественно по шоссейным асфальтированным дорогам, они, возвращаясь, шли ночами по просёлочным грунтовым дорогам вдоль леса с тем, чтобы услышав треск немецких мотоциклов, успеть скрыться в лесу. Днём, если было тихо и вблизи не стреляли, небольшие расстояния проходили по лесу, не выходя на открытые пространства и большие дороги. Многие женщины, продираясь через кусты, прыгая с кочки на кочку, потеряли обувь, сбили в кровь ноги, поэтому в дневные часы, спрятавшись в глухих участках леса, полосами из разорванных одежды и рюкзаков обматывали ступни, чтобы было не так больно идти. Питались поспевающими в это время лесными ягодами – черникой и голубикой. Пили болотную воду. Удивительно, но никто из них ни во время, ни после перехода не заболел. Встретились они с нашими воинскими частями только на подходах к Ленинграду, в районе Стрельны. Проверив у всех вышедших к ним из леса людей документы, командир воинской части сжалился над женщинами и дал машину, чтобы подбросить сразу обессилевших «окопников» до трамвайных путей города.
На следующий день папа пошел на работу, где и его, и всех остальных сотрудников, вернувшихся из-под Луги, встретили как героев, даже нашли для них на каком-то складе остатки фуража. В один прекрасный день папа принес с работы пакет, в котором было два килограмма жмыха, названного на этикетке дурандой. Это был спрессованный брикет тёмно-коричневого, почти чёрного цвета из шкурок семян и отжатых на масло ядрышек и зерен подсолнечника, льна и еще каких-то сельскохозяйственных культур, которых мы, как истинно городские жители, не знали и даже представить себе, что это такое, не смогли. Заглянув в пакет, мама сказала мне: «Бррр! Чернота какая! Неужели это кто-то может съесть? Поставь пакет с дурандой на всякий случай в кухонный стол, но не думаю, что она нам когда-нибудь пригодится». На этот раз она жестоко ошиблась. В январе мы её съели и, как мне помнится, даже с большим аппетитом. Правда, многочисленные мелкие и колючие обломки шкурок различных семян не один раз вызывали боли в моём животе.
По мере того, как вражеское кольцо сужалось вокруг нашего города, толпы беженцев вливались в город со стороны Петергофа, Гатчины, Пушкина. С собой у них были, в лучшем случае, документы и либо вещи, помещающиеся в рюкзак, либо маленькие дети. Мало кого из них успевали эвакуировать из города, большинство беженцев временно заселяли в опустевшие после эвакуации жильцов квартиры. Одна из таких беженок — молодая женщина, направленная на жительство в наше домохозяйство, рыдая, рассказывала всем в конторе о гибели у неё на глазах всех своих родных и просила поселить её в квартиру, где никого, кроме неё, не будет. Свою просьбу она объясняла сильным нервным срывом после всего пережитого – «Поймите, мне нужен покой, не могу никого видеть, не хочу ни с кем разговаривать». Ей пошли навстречу и прописали в одной из комнат полностью опустевшей квартиры в доме 4 по проспекту К. Маркса, на месте пересечения его Клинической аллеей. Вскоре она устроилась работать на заводе и, как все работающие, поздно вечером по пути с работы домой заглядывала иногда в жилищную контору, чтобы узнать новости.
В последних числах августа совершенно неожиданно для мамы папе пришла повестка. Неожиданным это было потому, что папа был трижды белобилетником. Я не представляю, что он сам думал о возможности своего призыва, но у мамы даже мысли не возникало, что его могут призвать и отправить на фронт. Когда эвакуация из города только начиналась, мама сразу же сказала, что она никуда не поедет, так как расставаться с папой не собирается и останется в городе вместе с ним. Эвакуация Ленжилснаба, основной задачей которого было обеспечение города строительными и ремонтными материалами, не планировалась. Было понятно, что при разрушениях, вызванных бомбёжками и пожарами, именно эти материалы будут нужны городу в первую очередь. В августе эвакуация молодых женщин вообще была приостановлена, не хватало рабочих рук, а предприятия продолжали работать, даже если основной состав был эвакуирован.
Жизнь решила иначе. Папа ушёл в военкомат и уже не вернулся. Несколько дней мама ходила к воротам казармы, где находились все мобилизованные в этот период, приносила папе что-нибудь вкусненькое и, убедившись, что он ещё в городе, возвращалась домой. Обстановка в городе становилась всё тревожнее, всё громче становилась слышна канонада орудий и разрывы снарядов. Второго сентября по карточкам была снижена норма хлеба. В один из вечеров мама пришла заплаканная и сказала, что папа попрощался с ней, сказав, что его в эту ночь отправят к месту назначения, скорее всего куда-то на север. На следующий день, пятого или шестого сентября, когда фактически город был окружен полностью, папы в казармах уже не было. Через день, восьмого сентября, завершение окружения города немецкими войсками было признано официально. Полностью прервалось железнодорожное движение, все шоссе и асфальтированные дороги были перекрыты немецкими частями, началась блокада города. Первое письмо от папы до нас дошло не раньше, чем месяца через три.
В связи с эвакуацией гражданских лиц из города мне запомнилась история одной из наших соседок по лестнице. Это была женщина лет сорока с ярко выраженной еврейской внешностью. С первых дней войны при встрече с любым жильцом нашего дома она подходила к нему и торопливо говорила: «Если немцы войдут в город, меня обязательно повесят. Мне нужно срочно уехать, помогите мне» (в августе отношение к отъезду из города молодых работоспособных женщин изменилось, он не приветствовался). Одни её успокаивали, что немцы далеко, до города не дошли, сдавать его никто не собирается, другие пытались убедить, что в военное время вообще не следует даже говорить о возможной сдаче нашего города противнику, это опасно. Однако все попытки отвлечь её от навязчивой мысли о скорой гибели не имели успеха, все уговоры были бесполезными. Узнав от кого-то из нашего дома, что есть возможность улететь из Ленинграда на самолёте, она поехала с этими людьми в аэропорт. В аэропорту ей вначале отказали в посадке на самолёт — билетов уже не было. Стоя на коленях, она сумела убедить лётчиков посадить её в самолёт, летевший в Кисловодск, где жили её родственники.
Самолёт сел в аэропорту Кисловодска через час после захвата города немцами. Немцы, контролировавшие выход пассажиров из самолёта, тут же в аэропорту повесили всех евреев, прилетевших этим рейсом. Конечно, я не могу утверждать, что эта женщина выжила бы в осаждённом городе, но то, как настойчиво вопреки всему она рвалась на встречу с собственной смертью, произвело на меня большое впечатление — и я начала превращаться в фаталиста. Впоследствии, уже в мирное время, похожая история произошла с актёром Чистяковым. Он, устроив грандиозный скандал, добился посадки на самолёт, разбившийся по пути к пункту назначения. И если мне не доставался билет на самолёт, пароход или поезд, я считала, что, возможно, это лучший вариант в моей жизни. Но, чтобы быть честной до конца, скажу, что ни один самолёт, ни один пароход и ни один поезд не разбился, не утонул и не сошёл с рельсов, если мне не удавалось купить на него билет.
Регулярные артиллерийские обстрелы города начались с 4-го сентября. Первый блокадный день Ленинграда – 8 сентября — был отмечен первым массированным налётом немецких самолетов, сбросивших на город более 12 тысяч зажигалок. На улицах из квадратных чёрных раструбов радиотрансляционных установок мужской голос многократно и как-то отрешённо, без эмоций, повторял: «Воздушная тревога, воздушная тревога». Когда мужской голос умолкал, включался стук метронома. При воздушных тревогах и обстрелах метроном стучал значительно быстрее, чем в остальное время, он «волновался». После объявления об отмене воздушной тревоги удары становились редкими, метроном успокаивался, было даже похоже, что он задрёмывал. За эту его особенность метроном называли сердцем блокадного Ленинграда.
Объявление тревоги по радио дополнялось воем сирен. На каждом участке дежурные выносили сирену на улицу, крутили её ручку, и она начинала издавать противные громкие звуки, похожие на тоскливый вой крупного голодного хищника. Возникал незабываемый звуковой фон военного времени, ты одновременно слышал вой нескольких сирен, стрельбу зениток, перемещавшуюся вместе с летящими немецкими самолётами, звук моторов бомбардировщиков и истребителей, шаги одиноких прохожих на опустевших улицах, своего рода это была симфония войны.
После объявления воздушной тревоги мама и другие неработающие женщины, члены группы самозащиты, поднимались по лестницам дежурить на чердаках. Основной их задачей было тушение попадавших на чердаки зажигательных бомб. Зажигалки, сброшенные с большой высоты, легко пробивали кровельное железо крыш, изредка застревая между кровлей и балками, но обычно падая на пол чердака. После удара они начинали свою «работу» — становились похожими на гигантские бенгальские огни, но «выплёвывали» не маленькие искры, а раскалённые сгустки материи, способные поджечь деревянные перекрытия. Женщины подхватывали зажигалку на лопату и либо топили её в бочке с водой, либо кидали на кучу песка и песком же засыпали. В это же время одна-две женщины присматривали за двором, посреди которого стояло несколько поленниц, так как поджечь дрова зажигалке было легче лёгкого.
Прочее население дома, в основном старики и дети, должно было спускаться в бомбоубежище и не покидать его до отбоя. При первых воздушных тревогах все, кто слушал радио или до кого долетал вой сирены, быстро одевались, захватывая с собой документы и сумку с питьём и едой, и спешили в бомбоубежище, Прибывшие туда первыми успевали сесть на скамейки у стены, где можно было прислониться к стене и устроиться таким образом гораздо удобнее, чем в центре подвала.
В один из сентябрьских дней, сразу после объявления воздушной тревоги, мама быстро проводила меня вниз, вместе со мной зашла в помещение убежища и сказала, указав на переднюю скамейку: «Сиди только на этом месте. Если в дом попадёт бомба, быстро встань и сразу же пройди под арку, под аркой стой ближе к улице. Если убежище засыплет, я буду знать, где мне тебя откапывать». Несмотря на то, что арку, соединявшую два помещения подвала, заложили несколькими рядами кирпичей, толщина капитальной стены нашего дома была настолько мощной, что под аркой оставалось свободное пространство, в котором мог поместиться и взрослый человек. Потянув меня за руку, она для большей убедительности поставила меня с левой стороны арки и убедилась, что я помещаюсь в этом пространстве. Потом отпустила меня и добавила: «Раз я буду знать, где ты, я тебя обязательно откопаю, что бы ни случилось, не бойся ничего». После этого мама помчалась на чердак, где во время тревоги должны были находиться все члены группы самозащиты.
Весь день немецкие самолёты сбрасывали зажигалки, осколочные и фугасные бомбы. Нашему дому в этот день достался водопад зажигалок. Они, пробив кровельное железо крыш, осыпали всё пространство чердака фонтанами расплавленных металлических брызг. Почти у всех женщин пострадала одежда, прожжённая раскалёнными брызгами. Несколько человек получили небольшие, но глубокие ожоги рук и лица. Поэтому, отправляясь на чердак, женщины стали надевать ватники, которые прожечь насквозь раскалённым каплям не удавалось. Домой они возвращались с множеством чёрных дыр и дырочек на своей одежде, но без серьёзных ожогов. Очень быстро женщины научились успешно справляться с зажигалками, закапывая их в больших кучах песка. За всё время блокады в нашем доме не возникло ни одного серьезного пожара.
В первую же бомбёжку города многие здания были разрушены. Когда стемнело, из окон нашей квартиры, смотревших в сторону залива, было видно, что где-то далеко за Невой, за Летним садом на чёрных низких тучах мечутся багровые сполохи. Утром небо в том направлении было затянуто чёрными плотными клубами дыма, и кто-то нам сказал, что это горят Бадаевские склады. В те далёкие времена именно этим пожаром в дальнейшем объяснялись нехватка и затем полное отсутствие продовольствия в блокадном городе. Почти сразу после пожара на Бадаевских складах, уже 12 сентября, опять была сокращена норма хлеба. И только спустя много лет после окончания войны мы узнали, что кроме запасов сахара (прекрасного горючего материала) на складах никаких продовольственных продуктов не было. Имевшиеся там запасы зерна в весенние месяцы сорок первого года были проданы Германии, а новое зерно осталось на полях сражений.
Налёты продолжались регулярно. Несмотря на низкую облачность и плохую видимость, мы все теперь с лёгкостью определяли, чьи самолёты летят над нами, различая их по звуку авиамоторов, равномерному на наших машинах и регулярно подвывающему на немецких самолетах. Мы все теперь знали (многие на собственном опыте), что во время стрельбы наших зениток стоять на открытом месте нельзя, так как с большой высоты падает дождь ещё горячих, острых и тяжёлых металлических осколков, легко пробивающих даже железную кровлю. Постепенно мы все научились определять и далее твёрдо знали, какая сторона каждой ленинградской улицы при артобстреле наиболее опасна. Позднее на главных магистралях города на стенах домов появились надписи: «Эта сторона улицы при артобстреле наиболее опасна». Такая надпись в память о блокадном времени сохранена до сих пор на одном из домов в начале Невского проспекта.
В первые месяцы блокады немецкие лётчики не раз сбрасывали бомбы, пытаясь разрушить мосты через Неву. Как ни удивительно, но за всё время их налётов ни одна бомба ни в один мост не попала. В то время это чудо объясняли двумя причинами: во-первых, висевшими в небе аэростатами, не дававшими возможности немецким бомбардировщикам пикировать и целенаправленно сбрасывать бомбы, и, во-вторых, очень быстрым течением воды в Неве, создающим над водой пространство разреженного воздуха, в которое, как в сети, и попадала сброшенная с высоты бомба.
В нашем микрорайоне, расположенном на Стрелке Выборгской стороны — полукружье берега, образованном Невой и Большой Невкой, многие имели моторные или чаще вёсельные лодки. Сразу за мостом Свободы, ниже по течению, у естественного пологого берега с группой ив размещалось не менее десятка лодок, которые цепями крепились к верхушкам вертикально вкопанных брёвен. И пока лодки не были реквизированы для военных нужд, их хозяева (если были дома) по окончании воздушной тревоги кидались на берег к лодкам и гребли на них к тем участкам реки, которые по течению были ниже мест, подвергшихся бомбардировке. Возвращались они почти всегда с богатым уловом оглушенной взрывами рыбы – с судаками, лещиками, окунями и рыбьей мелочью. Вскоре лодки отобрали. Глядя после бомбёжек с нашего моста на быструю невскую воду, мы видели рыб, в массе плывущих по течению светлыми брюшками вверх. Но без лодок выловить эту рыбу было уже невозможно.
После того, как узловые железнодорожные станции вокруг города были разбомблены и все пути на Большую землю перерезаны, началась эвакуация людей через Ладожское озеро на баржах, которые медленно тянули за собой речные буксиры. Готовилась к эвакуации и Военно-медицинская академия. Было решено водным путём через Ладогу отправлять как студентов, так и преподавательский состав с семьями. В результате вскоре произошла одна из ужаснейших трагедий начавшейся войны. Баржа, на которой в середине сентября должны были вывезти на Большую землю около 150 студентов последнего курса, практически уже подготовленных к работе, но ещё не получивших дипломы врачей, была расстреляна немецкими истребителями и затонула. Спастись не удалось ни одному человеку. Потом те, кто эвакуировался через озеро следом, рассказывали нам, что на месте гибели студентов ещё плавали доски затонувшей баржи, превращённые пулемётными очередями в решето. Двое будущих выпускников, погибших на этой барже, были из нашего дома. Горю их родителей сочувствовали все соседи, оставшиеся в городе после массовой эвакуации. Профессорско-преподавательский состав академии и студентов младших курсов отправлять через Ладогу на баржах уже не решились. Дядя также остался с нами в городе, продолжая преподавательскую работу в своей академии.
С первых блокадных дней сразу же резко изменилась обстановка в городе. Был введён комендантский час (с 11 вечера до пяти часов утра), когда по пустынным ночным улицам могли ходить только военные патрули. С учётом возможности прорыва фронта и появления отдельных немецких частей в городе поперёк многих улиц началось срочное строительство баррикад. В нашем микрорайоне баррикадами перегородили с двух сторон въезды на Клиническую аллею и въезд на проспект К. Маркса со стороны Невы. Баррикады представляли собой две параллельные дощатые стенки, расположенные на расстоянии около метра друг от друга и заполненные мешками с песком. Высота баррикад была близка двум метрам, проходы на другую сторону в них отсутствовали, поэтому для преодоления этих сооружений гражданским населением с двух сторон к баррикаде крепились сходни из нескольких досок с набитыми примерно через полметра поперечинами из брусков (чтобы не скользили ноги).
В первую блокадную зиму, когда перестал работать водопровод, все жители города вынуждены были ходить за водой к ближайшим рекам, речкам и каналам. Вскоре баррикады превратились для всех нас в трудно одолеваемые препятствия. Воду в то время носили обычно в 3-5-литровых бидонах, так как ведро воды для голодающего человека стало уже неподъёмным. Головокружение от голода часто сопровождалось потерей равновесия, и люди, поднимающиеся по сходням, выплескивали воду на доски. В результате очень скоро сходни превратились в ледяные горки – человек, иногда поднявшийся почти до самого верха, вдруг поскальзывался и съезжал вниз, и если кто-то уже начал подниматься вслед за ним, его судьба становилась такой же. После этого упавшим приходилось идти за водой вновь. Самое удивительное заключалось в том, что всё это происходило при полном молчании всех участников происшествия – ни тебе ругани, ни тебе стенаний. В большинстве своём в городе остались коренные жители, для которых мат всегда был языком изгоев, и говорить на нём считалось унизительным. Жизнь воспринималась такой, какова она есть, надо было беречь силы, а обвинять упавшего на обледеневших сходнях человека в такой ситуации было просто бессмысленно. Весной, когда чуть потеплело, баррикады незаметно исчезли со всех улиц.
Угловые комнаты многих стоявших на перекрёстках домов, в том числе и нашего, на высоте второго этажа были превращены в ДОТы. Проём окна закладывали кирпичами, оставляя небольшую прямоугольную амбразуру для стрельбы. Все сквозные подъезды нашего дома, кроме одного, были теперь со стороны улицы постоянно закрыты на ключ. Войти на лестницу запертых подъездов можно было только со двора. Усилились требования к домовым дежурным и к группе самозащиты. Начались регулярные ночные поквартирные обходы домов патрулями НКВД и военными патрулями. Обычно где-то в начале ночи раздавался звонок в двери, и я слышала мужской голос, кричавший с лестницы: «Начальник группы самозащиты – быстро на выход — обход дома!»
В конторе домохозяйства, в первые месяцы войны расположенной в помещении на первом этаже окнами во двор, после объявления воздушной тревоги собиралось много народа: управдом, участковый, начальники группы самозащиты и пожарной охраны, а также ещё человек 10, обычно мужчины, вернувшиеся с работы и готовые помочь, если случится что-то чрезвычайное. Когда бомбили не наш, а какой-то другой район, под лихорадочный темп метронома многие, особенно те, кто отработал полный рабочий день на заводе, дремали. И вот представьте себе такую картину: ночь, слабый свет настольной лампы под прикрытым газетой абажуром (электричество ещё было), полная комната дремлющих, сидя на стульях, людей, где-то далеко стреляют зенитки. Вдруг в помещении раздаётся грохот, затем громкие шипение и свист. Все моментально просыпаются и видят большой красный «снаряд», бешено крутящийся на полу посреди комнаты. Реакция трёх молодых мужчин была мгновенной и одинаковой — они перемахнули через письменный стол, стоявший под окном, вскочили на подоконник с тем, чтобы распахнуть окно и выпрыгнуть во двор, но так как их было трое, они как пробка заткнули проём узкого окна. В это время те, у кого реакция оказалась замедленной, разглядели, что вращающийся на полу предмет – огнетушитель, который от сотрясения сорвался со стены. При падении он ударился о пол клапаном, отчего и начались выброс пены со свистом и вращение. Под хохот всех, кто находился в комнате, мужчины, застрявшие в окне, выбирались обратно. Настроение, хоть на несколько дней, улучшилось у всех, даже у героев происшествия, а само происшествие стало предметом весёлых рассказов, а это было так необходимо в тот трудный период.
При очередном объявлении воздушной тревоги (где-то в середине сентября) мама отправила меня в бомбоубежище, вновь повторив, что я должна делать, если на бомбоубежище рухнут обломки верхних этажей дома. После этого мама ушла на дежурство, а я спустилась в бомбоубежище и села на первую скамейку, прямо напротив арки. Высоко под потолком горели две или три лампочки, света они давали мало, я взяла с собой книжку, но читать было невозможно. Все мои знакомые ребята, с которыми я дружила, эвакуировались. Муза не пришла, у неё заболел папа. Люди, сидевшие на скамейках по центру убежища, образовали несколько групп «по интересам» и в каждой что-то бурно обсуждали. Жильцы, сидящие на скамейках вдоль стены, к которой можно было прислониться, дремали. Через окно с вентилятором доносилась стрельба зениток, стреляли где-то далеко, потом началась стрельба рядом с домом. Вдруг все мы услышали нарастающий оглушительный вой падающей бомбы, затем раздался такой грохот, что моментально заложило уши. По земле прошёл гул, помещение бомбоубежища сильно встряхнуло, пол под ногами несколько раз ощутимо содрогнулся. Свет погас моментально, и мы все оказались в абсолютно черной темноте, которая, как мне подумалось в тот момент, бывает только в могиле.
В первые мгновения после взрыва бомбы в бомбоубежище воцарилась такая мёртвая тишина, как будто в нём уже не было ни одного живого человека. И вот в этой абсолютной тишине мы все вдруг явственно услышали, как из щелей, образовавшихся в железобетонных перекрытиях потолка бомбоубежища, с шелестом начал высыпаться песок. Всё усиливающийся шелест песка заставил всех замереть в ожидании чего-то ужасного, что может произойти каждую минуту. Потом мы услышали, как кто-то, спотыкаясь о ноги сидящих на скамейках людей, тяжёлыми шагами прошёл к двери. Послышалось несколько сильных рывков за ручку – дверь не открывалась, и затем раздался дикий крик: «Нас засыпало, засыпало!». И вот тут и началось всё то, что называется паническим ужасом. Кто-то — женщина или мужчина, было непонятно — завыл первым, затем этот вой подхватили еще несколько человек. Смею вас заверить, что в человеческом вое есть что-то действительно жуткое и звериное, а так как человек — животное социальное, больших усилий стоит не присоединиться к нему. Во всяком случае, в тот момент мне показалось, что у меня волосы на голове, как у собаки на загривке, пытаются встать дыбом. Помню, что только кто-то один, не поддавшийся общей панике, громко кричал: «Успокойтесь, товарищи, успокойтесь, пока ничего страшного не случилось!». Бесполезно, его никто не слышал.
Я, как мне велела мама, сразу после взрыва бомбы встала и ушла под арку. Сильного страха у меня не было, я верила маме и верила в маму, я ни капельки не сомневалась в том, что мама обязательно меня откопает, даже если весь дом рухнет на бомбоубежище. Как оказалось, в нишу я ушла вовремя. Под громкие завывания и причитания люди начали метаться в полной темноте. Было слышно как падали скамейки, спотыкаясь о них, падали люди. На упавших наступали те, кто ещё продолжал метаться, кто-то кричал и ругался, кто-то стонал от боли. И в этот момент я внезапно подумала, а что же происходит там, наверху? Где была мама, когда бомба попала в дом? Не ранена ли она? О том, что мама могла быть убита, я даже подумать не могла. Всю войну, всю блокаду ни единой мысли о возможности моей или маминой смерти в мою голову ни разу не приходило.
Внезапно раздалось несколько громких сильных ударов в дверь, все смолкли, и затем мы услышали спокойный мужской голос, вмиг прекративший панику: «Всё в порядке, дом цел, дверь заклинило от сотрясения, сейчас мы с ней разберёмся и вас выпустим». Крики умолкли, продолжали стонать и охать только пострадавшие при падении. Дверь какое-то время сотрясалась от мощных ударов снаружи и, наконец, со скрипом открылась. Все так дружно вскочили и бросились из бомбоубежища, что на выходе образовалась давка. Я вышла одной из последних, на площадке стояла и ждала меня мама. «Ну как ты, в порядке? Очень страшно было?». «Мама, я в порядке. Но давай сразу договоримся, что я в бомбоубежище больше никогда не пойду, ни-ког-да!». Мама к моему удивлению сразу согласилась: «Хорошо, больше не пойдёшь. А сейчас иди домой, отдохни хорошенько. А мне надо бежать обратно, бомба эта много бед у нас наделала. Когда вернусь — всё тебе расскажу подробно. Ты даже представить себе не можешь, какого страха мы тут натерпелись, когда ваши вопли услышали. Первое, что пришло нам в голову, что от сильного сотрясения лопнула водопроводная труба и вас водой заливает. Крики были такие отчаянные, мы решили, что вы уже тонете». В сентябре водопровод ещё работал, и при попадании бомб в жилые дома вода часто полностью заливала подвальные помещения и подвалы, переделанные в бомбоубежища.
Как потом рассказала мне мама, сброшенная немцами осколочная бомба взорвалась после удара в фундамент той части нашего дома, которая соединяла два длинных корпуса со стороны Клинической аллеи. Именно здесь (бывают же такие трагические случайности) шофёр остановил на время воздушной тревоги свой пригородный автобус, битком набитый пассажирами. Ни один человек не захотел выйти из автобуса и укрыться в траншее, в бомбоубежище или хотя бы в подъезде ближайшего дома. Осколки разорвавшейся бомбы прошили этот автобус насквозь. Расстояние между дырами от осколков было не более 10-15 см, а сами дыры имели размеры от нескольких мм до десятков см. Стенки автобуса стали похожи на решето. В первом документальном фильме о блокаде «Ленинград в борьбе», который демонстрировался в кинотеатре «Титан» уже в июле 1942 года, есть кадры с этим автобусом. Он ещё долго стоял у нашего дома как свидетельство произошедшей трагедии. Одна из убитых пассажирок была беременна, до родов оставалось совсем немного. Всех, кто потом вытаскивал трупы убитых пассажиров из автобуса, поразило то, что хотя у беременной женщины было много смертельных ранений, она была просто прошита множеством осколков, ребёнка не задел ни один из них. Его нашли, лежащим на её коленях. Но когда после бомбёжки в автобус смогли заглянуть, прошло время, и в живых уже не было никого.
Самым близким к месту взрыва бомбы был третий подъезд. Примерно 2/3 квартир этой лестницы были опечатаны в связи с отъездом их хозяев. В результате взрыва бомбы открылись почти все квартирные двери, надёжно закрытые как на простые, так и на сложные замки вне зависимости от количества этих замков. Ещё не улеглась пыль от взрыва, как узнавший о бомбе и примчавшийся с работы хозяин обнаружил в своей квартире «заинтересованное» лицо. Оно было доставлено к участковому, который отправил воришку в милицию. Управдому пришлось принимать срочные меры по охране чужого имущества — внизу лестницы поставили дежурного дворника, знавшего всех оставшихся жильцов в лицо, и начали срочно закрывать (ключи перед эвакуацией уезжавшие сдавали в домохозяйство, которое хранило их в сейфе) и вновь опечатывать открывшиеся настежь двери. Кроме этой работы возникла необходимость в заколачивании фанерой, папками или досками многих окон со стороны Клинической аллеи, в которых после взрыва либо вылетели оконные рамы целиком, либо в рамах не осталось ни одного стекла. Впереди была дождливая осень, среди дворников остался один мужчина, все работы падали на женщин.
Многие картины того времени навечно запечатлелись в моей памяти. На нашем участке работала дворником Христина – худая, черноволосая и горбоносая женщина в моём представлении похожая на старуху Изергиль. В те времена я считала ее глубокой старухой, ведь для меня в том моём возрасте и тридцатилетние были весьма пожилыми людьми (ориентация на маму – взрослый всеми уважаемый человек целых тридцати двух лет). Сейчас, вспоминая те события, я думаю, что Христине было не более сорока — сорока пяти лет, так как её сыну исполнилось в то время всего шестнадцать. Работала она хорошо, жалоб на неё никогда и ни от кого не поступало, единственным её недостатком была любовь к спиртному, но выпивала она в день получки и только по окончании работы, так что этот грех ей охотно прощали.
В тех случаях, когда по радио объявляли о воздушном налёте, а Христине уже удавалось, как она говорила, «клюкнуть», Христина выбегала на середину Астраханской улицы и начинала проклинать Гитлера. Руки со сжатыми кулаками взметались над её головой, она трясла ими и кричала (а голос у неё был очень сильным): «Дитер! Бешеный бесхвостый пес! Сдохни скорей! Чтобы детей у тебя не было, чтобы могилы тебе не было!» Воздух сам был полон звуков – рёв самолётных моторов, пулемётные очереди, разрывы зенитных снарядов. Сверху сыпался дождь осколков, и звонко, выбивая искры, ударялся о булыжную мостовую. А она с распущенными чёрными волосами, в длинной чёрной юбке металась посреди улицы в голубоватом свете прожекторов. Кто-нибудь из дежурящих мужчин выскакивал на дорогу и притаскивал её, вырывающуюся из рук, под навес подъезда. Проходило некоторое время, и она успокаивалась. Через несколько дней всё повторялось. Но сколько Христине её соседки ни говорили, что проклинать надо Гитлера, а не Дитера, она согласно кивала головой, но выскочив на середину улицы, забывала об этом моментально и опять мы слышали проклятия Дитеру. В то время её поведение никому не казалось смешным, её проклятия звучали жутковато, от них шел мороз по коже, а она сама в отблесках взрывов и прожекторов была похожа на фигуру греческой трагедии. Кстати, в своих проклятиях она, бывшая полуграмотным человеком и работавшая простым дворником, не опускалась до столь модного теперь мата. Он вообще не звучал на ленинградских улицах ни до войны, ни во время войны. Коренные жители нашего города обычно осуждающе говорили: «Ругается как извозчик», то есть матом. А извозом в зимнее время занималось в городе самое бедное крестьянство, в разговорном языке которого мат занимал значительное место.
В это время Виктор, уже призванный в армию, не столько знакомился с устройством различного оружия, сколько участвовал в разборе завалов, образованных в результате попадания бомб в жилые дома, спасая людей, засыпанных в подвалах или бомбоубежищах. Несмотря на трагизм происходящего, некоторые истории были забавными. При попадании бомбы в жилой дом на 10-ой Красноармейской улице(второй или третий дом слева от Московского проспекта) дом сложился, осталась стоять только его задняя кирпичная стена. По 2-3 половых доски на обломках деревянных балок, сохранившихся на этой стене, это было всё, что осталось от квартир каждого этажа. На двух досках бывшего 4-го этажа лежал, вцепившись в них руками, немолодой мужчина, единственный оставшийся в живых жилец этого дома. Увидев спасателей, он начал громко кричать. Они поднялись по завалу к стене, готовой рухнуть в любой момент, натянули брезент и предложили мужчине на него спрыгнуть. Он продолжал кричать, но прыгать отказывался, а спасателей уже ждали в другом районе. Тогда старший спасатель, руководивший работами, вынул оружие и крикнул: «Или ты сейчас же прыгаешь, или я тебя пристрелю, чтобы ты не выл на всю улицу!». Увидев оружие и услышав такую угрозу, мужчина отцепился от досок и свалился на натянутый брезент. Как потом выяснилось, никакого оружия у старшего по команде вообще не было, он держал в руках не то бумажник, не то футляр для очков, но его слова звучали так убедительно, что ему поверили не только лежавший на досках мужчина, но и его подчинённые. Потом допросили спасшегося. Оказалось, что вечером он явился домой пьяным, буянил так, что жена не пустила его в комнату, и он уснул, пристроившись на полу у стены в кухне, что и спасло ему жизнь.
После того, как я отвоевала себе право на время воздушных тревог не спускаться в бомбоубежище, я безуспешно пыталась добиться у мамы разрешения повсюду её сопровождать. Мама, в свою очередь, старалась меня оградить как от реальной опасности пребывания на обстреливаемой улице, так и от душевных травм, которые могло нанести мне зрелище тяжелораненых или убитых снарядами людей. Поэтому каждый раз она предпочитала не брать меня с собой на дежурство, а оставлять меня в квартире с большой бабушкой, мотивируя это болезнью бабушки и необходимостью присмотра за ней.
Немцы продолжали бомбить город и поочерёдно сбрасывали фугасные, осколочные и зажигательные бомбы то на дома вдоль Моховой улицы (как потом мы узнали, там был армейский штаб), то на Петроградскую сторону, то на наш район. В середине сентября в результате очередной бомбёжки от зажигательных бомб загорелись наши великолепные американские горы, расположенные по соседству с зоопарком. В самом зоопарке от взрыва фугасной или осколочной бомбы погибла тяжело раненная слониха.
Окна нашей квартиры смотрели прямо на мост Свободы, из них была видна, как панорама, Петроградская набережная от Большой Невы до хлебозавода на середине пути от моста Свободы до Гренадерского моста. Над крышей Петровского училища, моей школы, в солнечную погоду был виден сверкающий золотом кончик шпиля с ангелом Петропавловского собора, расположенного в центре Петропавловской крепости. Немного правее крепости были (не видные нам из окна, как и сама крепость) американские горы и зоопарк. Однако сам пожар, уничтоживший американские горы, был прекрасно виден из окон нашей квартиры. Все подъёмы и спуски этих гор представляли собой мощные конструкции из просмоленных брёвен, которые при пожаре превратились в необычайно мощный фонтан огня. На ночном небе остроконечные языки пламени рассыпались на снопы крупных искр, похожие на гигантский фейерверк и взлетавшие выше шпиля Петропавловского собора. Ветер нёс эти долго не гаснувшие искры по небу прочь от места пожара. На огромном пространстве города стало светло, как днём, а невская вода, в которой отражался факел пожара, сама казалась жидким пламенем.
С первого октября в очередной раз резко сократили нормы выдачи продовольствия: рабочие стали получать по 400, а иждивенцы по 200 граммов хлеба, начинался голод. В то время мы естественно связывали голод с пожаром на Бадаевских складах. Первой начала серьёзно болеть бабушка. У неё были больные почки, ей была необходима строгая диета и тепло, а все мы при печном отоплении домов нашего участка практически остались без дров. Дрова было принято покупать в середине лета, около месяца сушить их, сложенными в штабеля посреди двора, а затем уже переносить в подвал. Мы лишились нашего подвала, который теперь был превращен в бомбоубежище, а небольшое количество дров, оставшихся от прошлой зимы, пришлось перенести во двор. После разборки дощатых перегородок на чердаках и в подвале мы присоединили свою долю этих досок к нашим дровам, но всё равно их было очень мало для печного отопления квартиры. Поэтому с конца октября мы были вынуждены перейти на отопление комнат в квартире «буржуйками», похожими на отопительные агрегаты в старых железнодорожных вагонах.
За изготовление «буржуек» взялись заводские мужчины. Благодаря работавшему на Русском Дизеле Петровичу, папиному товарищу по рыбной ловле и охоте, две такие «буржуйки» появились и в наших комнатах. Их в отличие от плиты, круглых комнатных печей и камина можно было топить и бумагой. Поэтому, если надо было что-нибудь только слегка подогреть, мы ею и пользовались. Когда мы начали сжигать книги из нашей домашней библиотеки, мама, подумав немного, сказала: «Кого-кого, а уж классиков после войны обязательно будут переиздавать, поэтому классическую литературу мы сожжём в первую очередь». Если надо было подогреть или вскипятить в маленькой кастрюлечке воду, я садилась на низкую скамейку рядом с буржуйкой и начинала выдирать из книги по несколько страниц вместе. Затем эти страницы я скручивала спиралью и укладывала на горячие уголья на дне буржуйки. Хуже всего горела мелованная бумага, её и скрутить было трудно, а не горевший в огне мел тонким слоем ложился на уголья, которые от этого заметно тускнели и теряли жар. Собрания сочинений Пушкина, Толстого, Чехова, Лескова, Горького и многих других дали нам возможность в трудное блокадное время пить горячую воду утром и вечером и подогревать хоть какую-то еду днём.
От папы по-прежнему не было никаких известий, мы не знали даже, жив ли он, и если жив – то где теперь находится. На нашем 175 почтовом отделении не осталось ни одного почтальона. Поступающие по адресам этого отделения письма почтовые машины вываливали из мешков прямо на пол, где они лежали сугробом полутораметровой высоты. Мама, выбирая свободные между дежурствами и обстрелами минуты, почти каждый день приходила на почту и с разрешения начальника почтового отделения перебирала письма, в надежде найти папино послание. Заодно она отбирала и все те письма, которые были адресованы жильцам нашего дома, оставшимся в городе. На всех письмах, как и положено, стоял штамп военной цензуры. Однажды, уже в ноябре, она нашла (наконец-то!) и письмо от папы. Он писал, что находится в Кеми (Карелия), где относительно тихо, и хотя финны предпринимают вылазки почти каждый день, их группы малочисленны. В основном «работают» снайперы, отстреливающие командный состав. Он очень беспокоился о нас, так как знал и о бомбёжках, и об обстрелах, и о проблемах с продовольствием. Мама была бесконечна рада тому, что наконец-то она узнала, что папа жив и что теперь у нас был номер его полевой почты.
В октябре ушел в народное ополчение младший из маминых братьев, Шурик, затем призвали в армию папиного друга Бориса Тимма. Борис жил в квартире на втором этаже по нашей же лестнице. Он был племянником крупного эстонского деятеля коммунистической партии, расстрелянного белогвардейцами во время революции, работал на Путиловском заводе и почти все вечера проводил у нас. Попытки женить его, которые предпринимались всеми его друзьями, оканчивались неудачей. Он отшучивался: «Разведутся Валентина с Виктором, женюсь на Валентине, других прошу не предлагать!». Папа к его заявлениям относился спокойно и их дружба не прерывалась. А Борис был, по моим воспоминаниям, одним из красивейших мужчин, которые встретились мне в моей жизни. Рыжеватый блондин нордического типа с большими синими глазами в пушистых «девчоночьих» ресницах, в хорошей спортивной форме (волейболист и лыжник) он в любой компании моментально окружался женщинами. А если к этому добавить, что он очень хорошо танцевал, много зарабатывал как модельщик и умел со вкусом одеваться, то в глазах многих девушек он оставался мечтой, которая, несмотря на все их старания, не желала осуществляться.
Я помню, как он пришел к нам поздно вечером, света не было, одни сполохи через прорези в дверце буржуйки. Посмотрев на нас, он сказал маме: «Валёк, я пришел попрощаться с тобой. Ухожу и чувствую, что меня убьют в первом же бою, так что больше мы с тобой не увидимся. А тебе и Вику желаю уцелеть в этой войне и ещё долго быть счастливыми». Он поцеловал маму, приговаривая: «В щёчку, в щёчку и в губки», поцеловал меня и, растрепав мои волосы, быстро вышел. Через очень короткое время на мамино имя пришло письмо от незнакомого нам человека. В нём говорилось, что Борис был убит в самом начале атаки, пуля попала ему прямо в сердце, а он, выполняя его последнюю волю, пересылает маме его письмо. Мама читала письмо Бориса и плакала, потом свернула его в трубочку и положила на горячие уголья в буржуйке. Бумага вспыхнула, вместе с дымом улетело к небу и последнее послание Бориса. Я тоже, потихоньку от мамы, оплакала его. Я никогда не спрашивала маму, что было в том письме, а мама ни тогда, ни в дальнейшем никогда о нём не говорила. Должны же быть тайны на белом свете…
Первыми жертвами надвигающегося на всех голода стали наши домашние любимцы. Вскоре оказалось, что нам совсем нечем кормить Мессера и Маркизу. До тех пор, пока не отключили электричество, они, голодные, забирались под абажур настольной лампы, свет которой согревал их, и ели кусочки хлеба, размоченного в тёплой воде. Но и хлеба им доставалось всё меньше и меньше, пока одним утром мы не нашли их, прижавшихся друг к другу и уснувших вечным сном.
В середине ноября раздался дверной звонок и пришел Иван, дворник, который до войны носил нам дрова на четвертый этаж. Иван был батраком у богатого сибирского крестьянина, красавица дочь которого, Ольга, влюбилась в него. Согласия на брак от её родителей они не получили и бежали в город, где Иван устроился дворником в наш дом, чтобы получить жильё, а Ольга стала зарабатывать стиркой белья.
Я открыла дверь, Иван, держа в руках какой-то пакет, сказал: «Позови маму». Мама пошла к дверям, о чем они говорили, я не слышала, до меня донеслось только, как Иван громко сказал: «Ну, не можешь сама, хоть дочку-то накорми». Дверь захлопнулась, вернулась расстроенная мама. Я спросила, что её так расстроило. «Представляешь, сестра актрисы попросила Ивана убить Бимку, кормить то его стало нечем. Иван его тушку разделал и принес кусок мяса нам, вернее, тебе. Убеждал меня, что собачатина на вкус не хуже баранины. А я не смогла взять это мясо, ты на меня не сердись. Как вспомню Бимку и его любовь ко всем людям, а теперь такой его конец, так плакать хочется от бессилия». Мне тоже хотелось плакать, ведь я так мечтала о таком же, как Бимка, щенке.
Дров, которые у нас оставались во дворе, было крайне мало. Кроме того, регулярное недоедание делало задачу по подъему досок или поленьев на четвертый этаж почти неразрешимой. Если мама, которая много занималась спортом, оставалась ещё физически сильной, то дядя с тётей и бабушка слабели с каждым днём. С последней декады октября погода становилась всё холоднее и холоднее, а с середины ноября, необычайно рано для нашего города, на нас нагрянули настоящие крепкие морозы от 20 градусов и ниже. Воздушной волной от разрыва снарядов (в основном, рвалась шрапнель, дающая множество осколков), бьющих по кораблям, вставшим на якоря перед нашим домом, из оконных рам нашей квартиры вынесло почти все стекла. Вначале разбитые стекла заменили фанерой и толстыми папками, свет в комнаты шёл через стёкла, уцелевшие только в форточках. Но дни становились всё короче, и от наспех заколоченных окон всё сильнее веяло холодом. Поэтому с наступлением стойких холодов окна целиком заколотили старыми одеялами. В квартире даже днём стало темно как ночью, только маленькие язычки пламени коптилок позволяли ориентироваться в пространстве и не налетать на стулья. Иногда это освещение дополнялось светом пламени горевших в буржуйке дощечек или книг. Я из бабушкиной комнаты переехала в мамину и стала спать вместе с нею на одной кровати, вдвоём нам было гораздо теплее. К изголовью кровати мы придвинули пианино, которое, по маминым представлениям, должно было защитить нас от осколков шрапнели, рвущейся перед окнами.
Если температура в комнате становилась значительно ниже нулевой, и принесенная с Невы вода замерзала, мама, чтобы хоть немного согреть в комнате воздух, подкладывала в буржуйку несколько маленьких полешек, и когда они разгорались, открывала дверцу. Однажды, когда огонь осветил и согрел маленький квадрат на полу, из-за плинтуса вдруг выбежала мышка, за которой бежали два совсем маленьких мышонка. Добежав до согретого участка, мышка легла на бок, а мышата пристроились к ней и начали её сосать. Мамина рука потянулась к балетному чемоданчику со всеми нашими документами, поставленному в изголовье кровати. “Что ты хочешь сделать?“ — прошептала я, чтобы не спугнуть мышку. “Спустить на них чемодан, это же мыши “ — ответила мама. “Мама, ты что? Они такие же блокадники как мы. У них же всегда бывает много детей, а у этой осталось в живых только двое, нельзя их трогать“. “Возможно, что ты и права“ — сказала мама и поставила чемоданчик на место. Больше мышки, к моему великому огорчению, к нам не приходили. Возможно, что и они погибли от голода.
Всю блокаду не реже, чем раз в неделю, мы с мамой навещали маленькую бабушку и деда. В результате бомбёжек, обстрелов, отправки сыновей на фронт и вызванного этим стресса дедушка внезапно ослеп и стал совсем беспомощным. Осознание своего бессилия для деда было невыносимым, и только бабушка, рассказывая ему сказки о возможностях медицины, смогла его немного успокоить и вывести из стрессового состояния.
Виктор, получив звание старшего лейтенанта и став командиром пулемётной роты, уже находился в окопах на передовой линии фронта под Купчино. Наши части оказались в низине, среди большого капустного поля. Пока не начались сильные морозы, копать нормальные глубокие окопы было бесполезно – их моментально заливали грунтовые воды. Чтобы оградить себя от немецких пуль, сооружали бруствер из земляного вала, который мог прикрыть только лежащего человека. Где был ушедший в народное ополчение младший мамин брат, Шурик, никто не знал, так как ни одного письма от него не было.
У бабушки, находившейся теперь в полной растерянности и непрерывной тревоге и за сыновей, и за мужа, не осталось никаких помощников, кроме нас. Дров у них вообще не было совсем потому, что в мирное время их квартира отапливалась батареями центрального отопления, а обеды готовили на газовых плитах. Однако на их счастье в комнате от старых времён осталась большая изразцовая печь, благодаря чему в комнате стало возможно установить буржуйку, дым от которой уходил в эту печь. Газовые плиты, которые были в кухне бабушкиной квартиры, тоже не работали. Каждую неделю мы отвозили им на саночках немного дров – для тепла и для приготовления еды.
В тёплое время года мы ходили к бабушке по Пироговской набережной, затем через Литейный мост по проспекту Володарского (Литейному), потом по проспекту Нахимсона (Владимирскому) до Щербакова переулка, и по нему до Фонтанки. В зимнее время, как только Нева покрывалась прочным льдом, переходили реку, начиная от спуска на повороте Пироговской набережной от Невы к Большой Невке и доходя до спуска на набережной Жореса (Кутузова) недалеко от впадения Фонтанки в Неву. Если близкого обстрела не было, а погода была не очень морозной, можно было дойти до бабушкиного дома, переходя с набережной Жореса сразу на набережную Фонтанки. Но обычно мы избирали более короткую дорогу — шли по Гагаринской и Моховой улицам, и только дойдя до улицы Белинского, снова выходили на набережную Фонтанки и по ней доходили до Щербакова переулка. Но так как этот район часто обстреливался, приходилось добираться до бабушки и более длинным путём.
В самое страшное, в самое голодное и холодное время зимы, декабрь-январь 1941-1942 годов, переходя Невский проспект (тогда 25-го октября) по набережной Фонтанки, мы с мамой всегда останавливались на Аничковом мосту и любовались городом с этого возвышения. Сейчас трудно, я думаю даже нереально, представить себе ту картину, которую видели мы. Совершенно пустой Невский проспект, покрытый толстым слоем снега и заваленный вдоль тротуаров высокими сугробами, никакого движущегося транспорта, ни одного трамвая, ни одной машины. Глядишь в сторону Адмиралтейства или в сторону Московского вокзала и видишь, что и там, и там по Невскому проспекту на всём видимом протяжении бредёт не более 10 человек. Все дома стоят в легкой морозной дымке, некоторые заиндевели, и если бы не было одиноких движущихся фигур, этот городской пейзаж был бы похож на литографию. Стройный архитектурный ансамбль еще не был тронут и подпорчен рекламами современных варваров.
Несмотря на то, что военные пайки были гораздо больше гражданских, уже к началу ноября дядя очень сильно похудел, гимнастерка на нём повисла как на вешалке. Под глазами легли чёрные тени, на ногах появились отёки, явно начало сдавать сердце. Он всегда был худощавым, жировых запасов у него не было, так что восполнять энергетические потери за счёт собственных накоплений ему было нечем. Стало понятным, что спасти его может только срочный выезд из блокадного города. Вопрос о совместном отъезде с ним тёти уже не стоял, так как оставить без присмотра бабушку она не могла. А бабушка в основном лежала в полудрёме и, если могла подняться с кровати, передвигалась по квартире с большим трудом.
Мама целыми днями отсутствовала дома. Накормив меня рано утром, она сразу же уходила. Если не было обстрелов, дежурила в конторе домохозяйства у телефона, во время обстрела нашего микрорайона вместе с другими членами группы самозащиты на носилках выносила с улицы раненых, перевязывала их в конторе. Когда она вечером приходила домой, рукава и полы ватника часто были в кровавых пятнах, что со временем стало представлять большую проблему – не было воды, чтобы их отстирать, не было тепла, чтобы ватник высушить.
Меня мама старалась не брать с собой, особенно если был длительный обстрел района, но когда было относительно тихо, я всё же увязывалась за ней. У меня хорошая зрительная память, если какое-то происшествие или картина художника поражали меня своей композицией или красками, они на всю жизнь оставались со мной. Я и сейчас могу закрыть глаза и вызвать из глубин своей памяти «фотографию» увиденного мною тарана немецкого самолета. Поздним вечером пятого ноября во время воздушного налёта я с мамой стояла у подъезда на улице, так как зенитки стреляли где-то далеко, чуть левее Финляндского вокзала, и осколки снарядов с неба не сыпались. Небо было чёрным, местами затянутым редкими белыми облаками, между которыми сверкали звезды. Сначала мы услышали рокот моторов двух самолетов, немецкого бомбардировщика и нашего истребителя. Затем увидели сами самолёты, они попали в перекрестье голубоватых лучей нескольких прожекторов, их корпуса засверкали, отражая сильный свет, и стали ослепительно белыми. Помню, что в этот момент я подумала, а способны ли лётчики что-нибудь увидеть в таком слепящем свете? Затем один самолёт пошел на сближение с другим и ударил его. Мы с мамой видели, как оба самолёта, падая с громким рёвом, стали заваливаться в разные стороны и ушли за пределы лучей прожекторов. «Хоть бы наш герой уцелел, не видно в темноте, успел он выпрыгнуть с парашютом или нет?» — сказал мужчина, стоявший рядом. Потом мы узнали, что нам посчастливилось увидеть знаменитый таран, выполненный лётчиком А. Т. Севастьяновым. У него кончились боеприпасы, а немецкий бомбардировщик необходимо было уничтожить. Самолёт упал в Таврический сад. Совершив подвиг, Севастьянов, к нашей радости, в этот раз остался жив.
Осень и зима 1941-1942годов отличались необычайной суровостью, превзошедшей многие показатели жестоких морозов во время финской кампании. Уже в середине ноября выпал снег и сразу установились морозы сперва до двадцати, а затем и за двадцать градусов. Привычных для Ленинграда зимних потеплений в начале первых чисел декабря не было и в помине. Неделями держался мороз под тридцать градусов, по несколько дней подряд он был под сорок градусов, на градусниках окраинных домов ртуть опускалась до сорока четырех градусов. Центральное отопление в домах не работало. Для печного отопления большинство людей, не уехавших из города, не успело заготовить необходимое количество дров. Электричество и газ были отключены. Снижались нормы продуктовых пайков и усиливался голод. Таковы были условия, в которых предстояло выживать всем нам.
Несмотря на грамотную конструкцию буржуйки (внутри она была выложена кирпичами, долго хранившими тепло), она была слишком маленькой для того, чтобы при сильных морозах существенно поднять и длительно поддерживать положительную температуру даже в небольшой 20-метровой комнате. Если в неотапливаемых кухне и бабушкиной комнате принесённая с Невы вода замерзала уже через час, то в отапливаемых комнатах она превращалась в лёд только к утру.
Мама старалась максимально утеплить наше помещение. На кровать она положила второй матрас, сверху нас накрывало не менее трёх одеял. Но, даже находясь под несколькими одеялами, я чувствовала в комнате такой холод, что было страшно вылезти из постели. Ночью у меня особенно мёрзла голова, главным образом, нос и уши, казалось, что к утру кончик носа превращается в ледышку. А обязательно вставать и вылезать из постели при температуре, близкой к нулю, мне приходилось каждое утро, так как и мама, и тётя, уходя из квартиры на целый день, заставляли меня закрывать наружную дверь на толстый металлический крюк. Видя мои страдания и боясь, что я заработаю воспаление лёгких, в один из таких морозных дней мама подошла к платяному шкафу и вынула из него свою новую шубку из пушистых коричневых шкурок. Эту шубку ей на день рождения, который она отпраздновала первого февраля, подарил папа. Мама вывернула шубку подкладкой наверх и надела её на меня. От её пушистого меха, окутавшего меня со всех сторон, мне сразу стало очень тепло. При моём росте её шубка доходила мне до пяток и согревала не только моё туловище, но и ноги. После этого оставалось раздобыть что-нибудь тёплое мне на голову, что решилось значительно проще, так как мама нашла папину шерстяную лыжную шапку двухслойной финской вязки. Вот таким образом вопрос с моим утеплением был удачно решен. Теперь я могла, не вымерзнув как мамонты, перезимовать самую суровую зиму даже в неотапливаемой квартире.
Долгими днями я оставалась в тёмной холодной квартире практически полностью предоставленная самой себе. В соседней комнате лежала, находясь в тяжёлой дремоте, бабушка, закутанная в несколько одеял. Вставала она очень редко, но если вставала — обязательно приходила в мамину комнату поговорить со мной. Я растапливала бумагами буржуйку, мы подогревали воду в большой эмалированной кружке и пили вдвоём «чай» — горячую воду с кусочками хлеба, оставленными нам «на обед». Потом бабушка уходила к себе и опять засыпала, закутавшись в одеяла. А меня угнетало отсутствие движения, я была не в состоянии лежать целый день. Несмотря на холод, я вылезала из-под одеял, садилась за стол, на котором стояла коптилка, и при её слабом, мечущемся даже от моего дыхания огоньке я читала, читала, читала. Чтение позволяло мне почти полностью отрешаться от действительности и всех горестей происходящего. Когда я читала, я вместе с героями книги переселялась в их мир — мир приключений, путешествий и настоящей дружбы.
Коптилка, даже по сравнению со свечами, давала очень мало света, поэтому я вытащила из корзины с ёлочными игрушками тонкие цветные свечечки. Их свет был намного ярче света коптилок, но они очень быстро сгорали. И тогда я занялась изготовлением свечей. Для этого мне пришлось самой полностью разработать технологию этого производства. Гибкую обложку толстой тетради я сворачивала в трубку нужного мне диаметра. Затем вырезала круг чуть большего диаметра и через его центр продёргивала несколько толстых длинных нитей, скрученных в одну, ещё более толстую. Следующим важным этапом изготовления свечи было вливание в трубку небольшого количества растопленного оплывшего воска уже догоревших свечей. При этом надо было натягивать нити так, чтобы они держали донышко и оставались в середине трубки до полного застывания воска. Затем оставалось последнее — влить в трубку весь воск и дождаться, чтобы воск остыл и закрепил нити по центру трубки, после этого готовую свечу можно было освободить от бумажной обёртки. Мой свечной «заводик» проработал месяца полтора-два, пока полностью не сгорели все огарки восковых и стеариновых свечей.
После особенно удачного опыта, в результате которого изготовленная мною собственноручно свеча почти не отличалась от настоящей, я решила похвастаться этим и продемонстрировать её маме и тёте, возвратившимся домой. Но они обе устало отмахнулись от меня и я, честно говоря, ужасно обиделась на них.
Мама пришла очень расстроенной событиями того дня. Целый день длился артобстрел нашего микрорайона. Когда я увидела, что мамины ватник и варежки и тётин прорезиненный фартук в крупных пятнах крови, то поняла, что они весь день выносили с улицы и перевязывали тяжело раненных людей, им в этот день было просто не до меня. Начиная с 4-го сентября, улицы нашего города регулярно обстреливались шрапнелью – снарядами, начинёнными множеством мелких железок и разрывавшимися примерно в метре над землей. Это было специальное оружие для поражения живой силы на открытом пространстве. Чтобы увеличить число жертв, немцы разработали такую тактику – после первого залпа, когда под разрывы снарядов обычно попадало больше людей, чем при длительном обстреле, они обстреливали эту же улицу повторно, минут через 10, когда по их расчётам раненым начинали оказывать помощь люди, вышедшие из укрытий. Учитывая педантичность немцев, группа самозащиты выскакивала на улицу сразу после первых разрывов снарядов иза несколько минут до повторного залпа выводила или выносила несколько раненых. Их размещали в помещении нашего домохозяйства и делали перевязку, чтобы остановить кровотечение, так как до больницы под обстрелом с ранеными было не дойти. Кроме того, и саму больницу немцы регулярно обстреливали, стараясь приурочить эти обстрелы к поступлению в неё новых раненых.
Раненые, в основном это были женщины, переходившие через Финляндский проспект, вели себя по-разному: кто-то стонал, кто-то кричал и требовал немедленного к себе внимания, многие молчали. В этот день одна из женщин, когда к ней подходили, говорила: «Ничего страшного. Перевязывайте других, я подожду». Когда, перевязав всех стонущих и кричащих раненых, к ней, наконец, подошли, она оказалась мертва. Осколок снаряда перебил ей крупную артерию на ноге, и она умерла от большой потери крови, которая никем не была замечена, так как на женщине были толстые ватные брюки, впитывавшие кровь. Мама, рассказывая это мне и бабушке, раздражённо, даже со злостью, говорила: «Представляете, больше всех орала и требовала к себе внимания молодая женщина с самым лёгким ранением. Ничего бы с ней не сделалось, если бы её и через час перевязали. Из-за неё мы хорошего человека потеряли, простить себе не могу» Расстраивало её и то, что те тяжело раненные, кого они не успели вынести на носилках, были убиты повторным залпом. Несколько легко раненных вышли с ними сами.
После двадцатого ноября, как только установился прочный лёд на Ладожском озере, Военно-морская медицинская академия решила вывести весь преподавательский состав и студентов младших курсов по льду озера. Собираясь в поход, дядя одел под шинель и гимнастёрку шерстяной свитер, в высокие сапоги толстые шерстяные носки, собрал документы, взял в руки рюкзак, расцеловал нас всех и ушел. В рюкзак он упаковал только самые необходимые вещи и тот паёк, который академия выдавала всем на дорогу. Для бабушки он оставил банку сгущённого молока.
Письмо от него с нового места размещения ВММА, из города Кирова, мы получили довольно быстро, его привёз сотрудник академии, вернувшийся за очередной партией эвакуируемых студентов. Дядя писал, что ночью, в полной темноте, по звёздам их вёл местный житель, выполнявший обязанности проводника, так как хорошо знал особенности озера. Вскоре после их выхода на молодой лёд начался сильный северный ветер, порывы которого стали выбрасывать на лёд воду с центральных, еще не замёрзших, участков озера. Нагонная волна местами поднималась до колена и выше, каждый шаг в ледяной воде давался с большим трудом. Но дошли до Кобоны, находившейся на противоположном берегу озера, уже на «Большой» земле, все, не потеряв ни одного человека. После похода через Ладогу с пребыванием, пусть и частичным, в течение нескольких часов в ледяной воде, никто из преподавателей и студентов не заболел, что ещё раз подтвердило удивительные свойства организма человека при воздействии на него стрессовых ситуаций.
Чуть ли не на второй день после прибытия в Киров преподаватели приступили к чтению лекций и проведению практических занятий. Рядом со зданием, отданным академии, помещался госпиталь, что, по письмам дяди, способствовало действенному обучению студентов и быстрому развитию у них практических навыков, особенно необходимых будущим хирургам. Положение с едой было не блестящим, но неизмеримо лучшим, чем в блокадном городе. Возможно, что пеший переход сотрудников и студентов Военно-морской медицинской академии из города на «Большую» землю по льду Ладожского озера был первым и единственным подвигом такого рода. Вскоре после него, двадцать второго ноября, состоялось открытие «Дороги жизни» — автотранспортной магистрали на льду, обеспечивающей, далеко не в полной мере, эвакуацию людей из города и ввоз в него продовольствия и других средств жизнеобеспечения.
У нас же в городе голод становился всё сильнее и сильнее. С двадцатого ноября норма хлеба стала минимальной – 125 граммов. В натуре это был очень сырой кусочек тёмного цвета, размером чуть больше спичечного коробка. Кроме муки в тесто добавлялась целлюлоза, которую в обычных условиях использовали для производства бумаги. У многих наших соседей началось головокружение, затем голодные обмороки. Каждый день оставшиеся в городе жильцы нашего дома после работы заходили в контору домохозяйства. Она к этому времени выехала из квартиры №1, где её окна выходили во двор, вернее в узкий метровой ширины проход между нашим домом и прачечной. Теперь контора разместилась в квартире №2, над бомбоубежищем, с окнами на Астраханскую улицу и на единственный не запирающийся днём подъезд. Только здесь светила единственная электрическая лампочка, только здесь работал телефон, осуществлявший связь с комитетом по обороне и другими организациями Ленинграда, и только здесь круглосуточно в «титане» кипел кипяток. В большой комнате домохозяйства постоянно находились кто-нибудь из сотрудников домохозяйства (обычно управдом Шевелёв), кто-нибудь из группы самозащиты и наш участковый Николай Иванович, благодаря заботам которого появился и кипел «титан». Эта комната стала и штабом местных «военных действий», и пунктом первой медицинской помощи, и клубом «по интересам» для людей, живущих в доме. Сюда приходили, чтобы сообщить о смерти родных или соседей, сюда приносили последние новости с работы, здесь делали первую перевязку раненым при обстрелах. Сюда по дороге домой жильцы дома обязательно заходили после работы, чтобы выпить кружку кипятка и хоть немного согреться. Отсюда же начинали поквартирные обходы военные патрули и патрули НКВД.
Первые смерти от голода начались с наступлением холодов. Первыми стали погибать маленькие дети из многодетных семей. В те дни, когда у телефона дежурила мама, я тоже спускалась в контору домохозяйства. Меня привлекали яркий свет электрической лампочки, позволяющий читать без напряжения, тепло от «титана» и возможность услышать последние интересные новости. Эти дни мне запомнились и тем, как после осторожного стука открывалась дверь и, придерживаясь одной рукою за стенку и не отрывая ног от пола, мелкими шаркающими шагами входила одна из многодетных мам и почти шепотом сообщала: «Эдик умер…» или «Эльза умерла…» Эти мамы сами уже казались бесплотными существами, они постепенно теряли все краски и даже облик живых людей, становясь похожими на иконописные изображения. Вы, наверное, видели такие иконы — в центре находится главная фигура, а на заднем плане по бокам от неё маленькие вытянутые тонкие фигурки с большими из-за нимбов головами. И тогда, и теперь, когда я гляжу на такие иконы, я вспоминаю тех матерей. По моим воспоминаниям, в нашем доме эти семьи погибли целиком, многие не дожили до конца декабря, оставшиеся — до февраля 1942 года. Уже в мирное время мама, вспоминая о блокаде, назвала две цифры, которые я запомнила на всю жизнь. Она сказала, что когда началась блокада, в нашем доме было сорок четыре ребёнка, а к весне осталось только трое. Вероятно, кто-то ещё был вывезен, но в основном все другие погибли от голода.
Тот, кто находился в это время в конторе и был ещё в состоянии что-то делать — шел помочь матери, сообщившей о смерти ребёнка. Им предстояло спеленать умершего ребёнка (обычно трупы зашивали в простыни) и отнести его тельце на конюшню, находившуюся во втором дворе за прачечной. Туда до приезда труповозки относили всех, кто умер в нашем и в двух соседних с ним домах.
В конце ноября — начале декабря на Ситном и Кузнечном рынках в продаже вдруг появился студень. Он представлял собой желтоватое желе, в котором просвечивали редкие перчинки и лавровые листики. Продавалось это желе вместе с тарелкой или миской, в которой оно застыло. Ни в магазинах, ни в столовых ничего похожего на мясо не было, поэтому у всех покупателей сразу возникли вопросы: «Откуда это? Из чего сделан студень? Не из трупов ли или крыс?» В результате допросов продавщиц студня, проведённых «с пристрастием» заинтересованными покупателями, выяснилось, что студень представляет собой результат специальной обработки столярного клея с добавлением к нему в процессе варки черного перца и лаврового листа. Знакомый нам химик Николаев, живший в соседнем доме, провёл серию экспериментов со столярным клеем и написал подробную инструкцию по очистке клея от вредных для человека примесей: каким количеством воды надо залить плитку клея, сколько раз в сутки сменить воду, сколько дней потратить на все эти процедуры до варки студня. В результате в декабре и январе весь наш маленький коллектив ел такой «студень» примерно один раз в неделю, уничтожив к середине февраля почти все папины запасы столярного клея.
Ещё более существенными в спасении нас от голодной смерти оказались те несколько килограммов разных круп, упакованных мамой в брезентовом сундучке, подготовленном для поездки на отдых в Гостинополье. Мама разделила каждую крупу на маленькие ежедневные порции, которые добавлялись к пайку по карточкам. Чувства сытости эти добавки не вызывали, но мама говорила: «Всё, хватит. Сегодняшним днём жизнь не кончается, завтрашнюю порцию и есть будем завтра». Характер у мамы был железный. Всё же, чтобы поддержать меня, каждый вечер мама заваривала в кружечке маленькую чайную ложку картофельной муки, получалось что-то, похожее на кисель без сахара и ягод, но дающее краткое чувство сытости, позволяющее уснуть и проспать до утра.
Один из жильцов нашего дома, сделавший весной сорок первого года ремонт своей квартиры, рассказывал нам такую историю своего выживания. Каждый раз, когда его жена варила клей из ржаной муки для наклеивания обоев, он возмущался тем, что клей получается очень густым, а слой смазки этим клеем – очень толстым. Но так ничего изменить и не мог, клей у жены всегда получался густым. Зато теперь он вспоминает жену с самыми тёплыми чувствами. Каждый вечер, придя с работы, он отрывает от стенки нижние концы обоев, куда при их приклеивании стекали излишки клея. Оторванные куски он замачивает в воде, смывает муку в кастрюлю и готовит, таким образом, себе ужин. Не знаю, спас ли его именно обойный клей или что другое, но он выжил в блокаду.
Рабочие высокой квалификации, не призванные в армию и выполнявшие срочные оборонные задания, в основном ремонт повреждённой военной техники, получали дополнительное питание в заводских столовых, имевших подсобные хозяйства на не оккупированной немцами территории. При выездах этих рабочих на передовые линии их подкармливали военные, у которых они ремонтировали оборудование, или моряки, где они участвовали в ремонте двигателей и военного оборудования различных кораблей. Труднее всего приходилось тем рабочим, работа которых была связана с операциями на тяжелых станках. Они работали, не покидая помещения цеха, не получая, как другие, никаких добавок к своему пайку. У двух человек из нашего дома сердца во время работы просто остановились от голода, и их тела сползли к подножию работающих станков. Вечером или на другой день в домохозяйстве узнали об их смерти от оставшихся в живых и продолжавших работать на том же предприятии соседей.
К декабрю в городе исчезли почти все животные. Большинство собак, кошек и голубей либо было съедено, либо погибло от голода. Совершенно не было слышно даже чириканья воробьёв. Оставшиеся в живых собаки и голуби сами покинули город в поисках хлебных мест. Вороны улетели к местам сражений. Зато просто в невероятных количествах размножились крысы. Основным источником их питания были человеческие трупы, часто неделями лежавшие на улицах, в квартирах, на конюшнях или в подвалах. Крысы стали очень крупными, намного крупнее тех, что мы видим сейчас, и очень агрессивными. При попытках отогнать их от трупов, до приезда «труповозки» собранных в старой конюшне, они с противным визгом бросались на людей, пытаясь их укусить. Одна из таких крыс в ответ на мой взмах рукой намертво вцепилась зубами в валенок, но на мое счастье не смогла прокусить плотно скатанную шерсть и поранить ногу. Уже много позже в одном из романов К. Федина я прочла о том, как в голодные послереволюционные годы прошлого столетия полчище крыс напало на пролётку, проезжавшую по улице (теперь проспекту Обуховской обороны) между Александро-Невской лаврой и расположенными по берегу Невы продуктовыми складами, уничтожив лошадь, извозчика и пассажира.
В начале декабря, когда по продуктовым карточкам можно ещё было «отовариться» в любом магазине, мы с мамой возвращались домой после похода к маленькой бабушке. Шли по Литейному проспекту, и так как надо было выкупить хлеб, заглянули в магазин на углу Литейного и улицы Чайковского. Мама встала в длинную очередь, и когда она подошла к продавщице, та взвесила на весах положенные маме и мне граммы хлеба одним кусочком. В это время крупный мужчина, стоявший у окна, прислонясь к стене, внезапно кинулся к прилавку, и с силой оттолкнув маму в сторону, схватил с весов хлеб и попытался сразу целиком запихать его в рот. Мужчины, стоявшие в очереди за мамой, вцепились в него, пытаясь оторвать ото рта его руки с нашим хлебом. Он сразу же упал набок на пол, сложился калачиком, руки его оставались крепко прижатыми к лицу, меж грязных пальцев текла обильная слюна с крошками хлеба. Сомнений в том, что наша суточная норма хлеба исчезла навсегда, у нас уже не было. Но мужчины, выскочившие из очереди, начали пинать его ногами, пытаясь разжать его руки и вытащить изо рта хлеб. Он же, не открывая глаз, плотно прижимал грязные руки к лицу, жевал и глотал, жевал и глотал. Мама в это время оттаскивала разъярённых мужчин от упавшего на пол похитителя нашего хлеба. Наконец, когда она крикнула: «Да оставьте же вы его в покое! Вы что, не видите, что это уже не человек?», все вдруг остановились и, не глядя друг на друга, вернулись на свои места в очереди. Домой мы возвращались молча.
Когда мы пришли домой, я спросила маму: «Почему ты сказала, что этот мужчина – уже не человек?». Мама пояснила мне: «У дистрофии бывает три стадии. Третья, самая последняя — это полное истощение нервной системы. Человек уже не контролирует свои поступки, не понимает, что он делает, живет как самое примитивное животное. В основном ищет только где и что бы съесть, то есть перестаёт быть человеком». Затем она добавила: «Самое страшное при этом то, что он становится способным съесть другого человека. Поэтому я очень прошу тебя быть осторожной и никогда не входить в подъезд с незнакомыми тебе людьми». Всё же в этот вечер меня значительно больше, чем перспектива быть съеденной завтра, огорчала потеря нашего хлеба сегодня.
Спустя несколько месяцев, в июле 1942 года, мы с мамой пошли в кинотеатр «Октябрь» посмотреть документальный фильм «Ленинград в борьбе». Там мы увидели такие кадры. Огромные снежные сугробы, решётка Летнего сада со стороны Невы. Вдоль нее от Фонтанки по направлению к Лебяжьей канавке (но, может быть, и наоборот, ведь этот фильм я смотрела более 70-ти лет назад) идёт, сильно шатаясь, закутанный в женский шерстяной платок крупный мужчина, и вдруг падает мёртвым. Мы с мамой повернулись друг к другу и одновременно сказали: я — «Это он!» и мама — «Помнишь его?». Теперь я допускаю, что в действительности это мог быть и не он. Однако сам облик запечатлённого киноаппаратом человека был так типичен для самых страшных месяцев блокады, что лично у нас с мамой не было, а у меня до сих пор нет сомнений в том, что это и был похититель нашего хлеба. Кроме того, если посмотреть на карту города, Летний сад находится очень близко к тому магазину на углу Литейного и Чайковского, где мы «потеряли» свой хлеб.
Я не знаю статистических данных по динамике гибели населения от голода. На протяжении последних лет цифры несколько раз и весьма существенно менялись, и, можно предположить, что точных цифр мы уже не узнаем никогда. По моим воспоминаниям о том, что происходило в наших домах, самая высокая смертность от голода среди оставшегося в Ленинграде населения наблюдалась в декабре 1941 и январе 1942 годов. Во всяком случае, в нашем доме за эти месяцы умерло более всего людей. Именно до двадцатых чисел декабря сохранялась самая низкая норма выдачи хлеба – 125 граммов чёрной сырой массы, и именно в декабре и январе стояли тёмные морозные дни, не только с экстремальными для нашего города морозами, иногда зашкаливающими за 40 градусов, но и с пронизывающими шквалистыми ветрами. Не было дня, чтобы выйдя на улицу и посмотрев по сторонам, я не увидела сразу несколько новых трупов. Иногда они были частично засыпаны снегом, который ветер сметал в сугробы вдоль тротуаров, иногда снег скрывал их почти полностью, иногда они ничком лежали посреди проезжей части улицы. Чаще всего снег оставлял на своей поверхности кисти рук с чёрными скрюченными пальцами, как будто умирающие от голода на морозе люди всё ещё цеплялись за что-то вроде надежды на жизнь.
После войны, живя в королевстве Румыния, мы с мамой пошли в кино на французский фильм ужасов. В нашей стране в то время такие фильмы не закупали и не демонстрировали. Нам с мамой интересно было узнать, что же это такое «Фильм ужасов»? Показывали Средневековье. Мужской монастырь в горах. И самый главный ужас фильма — каждый день на горных тропах, заметаемых снегом, местные жители находят убитых людей, скрюченные пальцы которых торчат из снега. Вот так. А для нас такой фильм ужасов был нашей реальностью несколько месяцев подряд.
Я не исключаю того, что именно на нашем участке, вокруг именно нашего дома трупов могло быть больше, чем на соседних участках, в силу сложившихся в то время трагических обстоятельств. Если человек оставался без продуктовых карточек (терял их или их у него украли), в эти зимние месяцы их никому не восстанавливали. В том случае, если это трагическое происшествие случалось за день-два до выдачи новых карточек, ещё можно было остаться в живых. Если впереди был более длительный срок, то он становился для этого человека смертным приговором. И вот люди, оставшиеся в силу трагических обстоятельств без карточек, шли в больницу имени Карла Маркса (которая была рядом с нами) в надежде, что их там примут и подкормят. Но существовал приказ – в больницу принимать на лечение только тех людей, которые передадут ей для своего пропитания продуктовые карточки. И если идущим в больницу, ослабевшим от голода людям придавала силу надежда, что там их спасут, то при отказе, означавшем для них смертный приговор, они сразу же теряли силы. Дойдя до ближайших домов (один из них был наш), они садились на ступени подъездов или на сугроб, или просто падали на дорогу и замерзали. Зима была снежная, почти как в 2010 году, их быстро засыпало снегом, и следующим утром из-под снега были видны только их руки с чёрными скрюченными пальцами.
Недавно из книги «Ленинград в блокаде», написанной Д. В. Павловым, занимавшим должность уполномоченного Госкомитета обороны по продовольственным вопросам, я узнала предысторию этого вопроса. Павлов вспоминал, что А. А. Жданов, узнав о случаях, когда люди, обращавшиеся за помощью в связи с потерей карточек, на самом деле карточек не теряли, подписал приказ «никому вторично карточек не выдавать». Далее шла почти восторженная фраза Павлова: «потери карточек прекратились», что в переводе на русский язык относится к нашей суровой классике — «нет человека, нет проблемы».
Но с их смертью трагедия не кончалась. В ноябре и до середины декабря наши дворники отвозили на санках трупы умёрших жильцов в покойницкую больницы Карла Маркса. Однако попытки дворников отправить туда же трупы прохожих, собранные на нашей территории, встречали яростное сопротивление сотрудников морга – трупы тоже было приказано принимать с документами и обязательно с карточками. За неубранные с центральных улиц трупы нагоняй получали управдомы. И тогда начался третий этап трагедии, превращающий нашу жизнь в фарс или трагикомедию. Дворники вставали ночью и под покровом темноты перевозили, переносили, перетаскивали не принимаемые моргом трупы со своего на соседний участок — пусть разбираются с моргом соседи. Но если дворники соседнего участка не теряли бдительность, то рано утром наши дворники находили на нашей территории не только унесённые с неё ночью трупы, но и трупы с соседнего участка. Как говорится, «се ля ви» военного времени.
Приказ вместе с трупом сдавать и продуктовые карточки привёл к тому, что родственники умёршего человека старались как можно дольше скрывать его смерть. Когда их спрашивали, почему так долго не видно одного из членов их семейства, следовал ответ, что он (она) так ослабел, что выходить из квартиры уже не в состоянии, больше лежит, чем ходит. Иногда это было правдой, как в случае с моей бабушкой, иногда ложью. В последнем случае труп долгое время (до месяца, пока по карточке этого человека можно было получать продукты) лежал дома среди живых людей. Такое было возможно в зимний период, когда во всех квартирах температура была ниже нуля. Если кто из соседей и догадывался, что этого человека уже давно нет в живых, то я не знаю ни одного случая, чтобы об этом донесли “кому следует”. Все хорошо понимали, что карточка умершего человека могла стать единственным счастливым шансом для выживания остальных членов этого семейства.
В нашем доме жила старая, но очень богато, очень красиво одевающаяся женщина. Как говорили в те времена, дама была «из бывших». Все женщины после встречи с нею на улице потом заочно восторгались её каракулевым саком из чёрного блестящего меха с очень мелкими завитками. Называли цену этого произведения скорняжного искусства, бывшую запредельной практически для всех жительниц нашего дома. В один из зимних месяцев и её нашли лежащей на дороге. Её знаменитая шубка оставалась на ней нетронутой, на неё никто не покусился, но все мышцы от талии до колен этой женщины были срезаны кем-то из голодающих. Времена и обстоятельства серьезно меняют наши представления о ценностях нашего прекрасного мира.
В те дни я совершила ужасное преступление, память о котором несу через всю свою жизнь. Большой бабушке было очень плохо, почки её переставали работать, медленно развивалась уремия и следующий за ней токсикоз. Целые дни в полудрёме она лежала на кровати, ей всё время было холодно. Когда топили буржуйку, мама и тётя поочерёдно согревали воду для грелки к её ногам. В тот день мама с тётей были на кухне, в самом конце коридора, а я читала книгу в самой первой от наружных дверей маминой комнате. Когда меня за чем-то позвали на кухню, я, проходя мимо комнаты, в которой лежала бабушка, увидела, что на табурете, у изголовья кровати, стоит бабушкина чашка, а поперек чашки положена чайная ложка со сгущённым молоком. Возвращаясь обратно, я неожиданно для самой себя свернула к бабушкиной кровати и спросила её: «Бабушка, можно я лизну немножко молока с твоей ложки?» Бабушка ничего мне не ответила. Она спала, тихонько похрапывая, и, разумеется, никаких возражений от неё я не услышала. Поэтому я наклонилась над чашкой и слизнула капельку молока. Когда меня снова позвали на кухню, я на обратном пути опять подбежала к бабушкиной кровати, снова спросила её, можно ли мне лизнуть молоко, и, не дождавшись ответа, лизнула его ещё раз. В третий раз, когда я подошла к бабушкиной кровати и увидела, что молока на чайной ложке осталось не более горошины, уже не спрашивая её ни о чём, взяла ложку в руки и даже не облизала, а обсосала её. Во рту остался противный металлический вкус от ложки, а в душе возникло мрачное предчувствие дальнейших печальных событий.
Какое-то время на кухне было тихо. Потом я услышала, как тётя встала и сказала маме: «Пойду, посмотрю как там Муттерхен, может она уже проснулась». Когда тётя подошла к бабушкиной кровати, она сразу увидела, что на ложке молока нет, и спросила бабушку: «Мама, ты съела молоко?». «Нет, я только что проснулась, и ни пила, ни ела. А почему ты спросила?». Тётя не ответила и быстро прошла на кухню: «Валя, только не обижайся на меня, но, по-моему, Ирма съела мамино молоко, оно было на чайной ложке, а теперь на ложке ничего нет и она такая чистая, как будто ее вымыли» («Вылизали и обсосали» про себя добавила я). Первое, что сказала мама: «Не может быть», вслед за этим я сразу услышала: «Ирма! Ну-ка, быстренько иди сюда!». И я пошла, еле передвигая ноги, они сами не хотели идти, как будто к ним привязали что-то очень тяжелое.
Когда я предстала перед мамой и тётей, они даже спрашивать меня ни о чём не стали. Всё было ясно написано на моей физиономии. Мама сердито сдвинула брови и очень резко сказала: «Видеть тебя не хочу, марш в комнату! Сиди там и думай, серьёзно думай над тем, что такое ты сотворила!» Тётя не сказала ничего, но имела очень расстроенный вид.
Я пошла в комнату, влезла на кровать, закрылась одеялом и стала думать, как велела мне мама. Действительно, почему я съела бабушкино молоко, без спроса, без разрешения? Его ведь было так мало, что я ничего и не почувствовала. Поступок, даже по той давнишней моей оценке, был не только преступным, но и явно бессмысленным. И тут я вспомнила похитителя нашего хлеба и поняла, что всё дело объясняется тем, что у меня началась третья стадия дистрофии, а это значит, что скоро я вообще перестану быть человеком, а потом умру. В результате мне стало себя очень жалко, я почувствовала, как уголки моих губ поехали вниз, а глазам стало очень горячо. Я совершенно не собиралась плакать от жалости к себе, но слёзы текли и текли из моих глаз, и я не могла их остановить. И когда меня опять позвали на кухню, я решила больше никуда не ходить – умирать, так умирать!
В комнату пришла мама: «Ты что, не слышишь, что я тебя зову?». Тут я выпалила скороговоркой: «Я долго думала, как ты велела, я поняла, почему съела бабушкино молоко, у меня третья стадия и я скоро умру, вот!». «Да-а-а – протянула мама – Гиля, подойди, пожалуйста, сюда к нам. Как тебе нравится, наша выдумщица сейчас объявила, что у неё дистрофия в последней стадии, потому и молоко съела, а теперь еще и умереть готовится». Тетя всплеснула руками: «Может у неё температура? Голова не горячая? Надо градусник поставить!». Мама ответила ей: «У неё не температура, а угрызения совести плюс дурацкие выдумки. Давай, вылезай-ка из-под одеяла» и она вытащила меня за руку из-под груды одеял и поставила на пол рядом с собой. Потом мама провела рукой по моей попке и ущипнула её, затем, обернувшись к тёте, сказала: «Тут ещё столько мяса, что её дистрофия и на вторую стадию не тянет». А потом снова обратилась ко мне: «Если будешь заранее готовиться к смерти, то и правда умрёшь. Выживают только те, кто о жизни думает и за жизнь борется вопреки всему, что в это время происходит. Ты это понимаешь, или ты действительно не хочешь жить?». Пока мама, крепко держа за руку, вела меня на кухню, нас догнала тётя и шепнула мне на ухо: «Бабушка на тебя не сердится». А на кухне мама сердито продолжила: «Тебе надо волю закалять, она у тебя явно слабовата. Стыд какой, мимо ложки сгущённого молока не могла спокойно пройти!». Но что бы потом они мне не говорили в утешение, ещё несколько дней я не могла выйти из подавленного, явно шокового состояния. Не знаю, рассказали мама или тётя об этом происшествии кому-нибудь или нет, но по окончании войны я несколько лет на каждый свой день рождения получала от родственников в качестве подарков баночки сгущённого молока.
Один из эпизодов того времени, который запомнился мне очень хорошо, я не могу «привязать» к точной дате. Когда я позвонила в Музей блокады и обороны Ленинграда и спросила, в каком месяце город готовился к взрывам заводов, военных предприятий и мостов в связи с возможностью прорыва фронта немецкими частями, мне ответили, что это было в сентябре. Однако, тот эпизод, о котором пишу я, произошёл в зимний период, когда улицы были завалены снегом и мы все уже сильно ослабели от голода. Возможно, это был декабрь 1941-го или даже январь 1942-го.
Поздним вечером, когда мама ещё не спала, а я уже нырнула под одеяла, чтобы успеть согреться, успокоиться после всех событий дня и уснуть, раздался звонок в двери. Мама пошла открывать, и я по голосу вошедшего мужчины поняла, что к нам пришел Петрович, верный спутник папы в поездках на рыбалку. Его первый вопрос к маме был: «Ребёнок спит?». Предчувствуя, что сейчас я услышу что-то очень интересное и явно рассчитанное не для моих ушей, я мгновенно изобразила мертвецкий сон и стала посапывать носом. Даже мама, заглянувшая под одеяло, не стала сомневаться в моём сне и ответила: «Крепко спит». И тогда Петрович очень тихим голосом, чтобы не разбудить меня, рассказал маме следующее. «Валентина, у нас на фронте дела очень серьёзные. Нам пришёл приказ, если немцы прорвут оборону, взорвать завод (Русский дизель). Мы у себя уже заминировали все самые важные участки, и теперь будем круглосуточно дежурить в цехах. Я отпросился буквально на полчаса, сказал начальству, что должен предупредить обо всём жену. Мой начальник, да и все другие на заводе не знают, что Анюта с детьми еще в июле уехала к матери в деревню, так что тебе придётся какое-то время изображать мою жену, на людях, разумеется» Мама моментально возразила: «Я никуда не поеду. Больше всего теперь я боюсь растеряться с Виктором, если мы потеряем связь, то как потом найдём друг друга?» Петрович уже более громко, командным голосом и с нажимом на слова, произнес: «Не возражай мне. Поедешь, как миленькая. Пойми, в городе будут взорваны не только военные объекты, но и хлебозаводы, водокачки, а через час-два после взрывов, за которые мы все должны успеть уйти из города, будут взорваны и мосты. Ты что думаешь, если немцы придут в такой разрушенный город, они всех вас по головке будут гладить? Или решать задачу, как вас прокормить? Да они вас даже расстреливать не будут, а как тараканов холодом и голодом выморят. Я не хочу потом краснеть перед Виктором – скажет, сам удрал, а мою жену с ребёнком на смерть оставил?». Мама что-то возразила опять, но уже менее уверенно: «Но идти до аэропорта очень далеко, девочке по снегу до него не дойти». «А вот об этом не беспокойся, устанет — понесём её по очереди. Запомни, сейчас самое главное — ты должна приготовить все документы, которые возьмёшь с собой, и упакуй в сумку что-то тёплое вроде одеяла или большого платка, во что можно завернуться во время полёта. В военных самолётах кругом дырки и щели, в которые, ой как дует. Значит так, сразу после взрывов, которые ты сама услышишь, я за вами зайду, и мы вместе быстро пойдём на Ржевку, там аэродром, там нас будут ждать самолёты. Так что приготовь всё, как я сказал, а я пошёл на завод», и он ушёл. Как только за ним захлопнулась дверь, я сразу же села на кровати: «Ты сейчас будешь собираться? Тебе помочь?». «Вот, значит, как ты спишь. А что нам собирать? Все документы в балетном чемоданчике. Вещи придётся оставить, нам их до аэродрома не донести, хорошо, если сами сможем быстро дойти. А сейчас давай спать. Взрывы мы услышим во всех случаях. Заводы же рядом», И мы легли спать и после всех дневных потрясений крепко уснули. Ни в эту ночь, ни в следующую взрывов не было. А ещё через несколько дней к нам опять забежал Петрович и сказал, что немцы не прорвались, приказ взрывать заводы отменили, а он сам улетает в Мурманск чинить очередную подводную лодку.
Иногда (в основном по памятным датам) по нашему городскому радио передают воспоминания блокадников. И тогда я слышу, как многие говорят о том, как страшно им было. Так вот, хотите — верьте, хотите — нет, но мне страшно не было почти никогда. Из всего «набора» отрицательных эмоций в блокаду у меня в памяти осталась (но зато на всю последующую жизнь) только одна — постоянное чувство голода с неутолимым желанием немедленно съесть хоть что-нибудь. Но не было постоянного страха от обстрелов или от бомбёжки, хотя последняя вызывала у меня чувство, какое у всего живого возникает при землетрясениях, когда домашние животные завывают, а у диких шерсть на загривке встает дыбом, и они начинают рычать. Сейчас отсутствие страха я могу объяснить только тем, что, по всей вероятности, в моей душе тайно жило осознание того, что в этой войне я уцелею (все умрут, а я останусь) и это влияло на мое восприятие всего происходящего вокруг меня. Теперь, по прошествии многих лет, я знаю несколько достоверных случаев совершенно точного предсказания даты или характера своей смерти разными людьми. Может быть у нас в сознании существуют и точные предсказания жизни, и такое было у меня?
Но в блокаду и я встретилась с ситуацией, регулярно вызывавшей ужас в моей душе. Где-то во второй половине декабря мы, привязав охапку дощечек к моим санкам, пошли навещать маленькую бабушку. Когда мы подошли к спуску на невский лёд на нашем берегу, напротив левого крыла здания Военно-медицинской академии, я увидела картину, поразившую меня на всю жизнь. Перед спуском с набережной на лёд Невы заканчивался бульвар, тянувшийся вдоль Пироговской набережной от Литейного моста до поворота дороги на проспект К. Маркса. Со стороны тротуара, идущего вдоль набережной, и вдоль дороги он был обсажен длинными рядами низких стриженых кустов желтой акации, а по углам газона красовались плотные куртины высоких кустов жимолости. Под одним из таких кустов, крепко ухватившись правой рукой за толстую ветку, лежал на спине молодой человек лет двадцати. Вероятно, он шёл по набережной от моста, ему стало плохо, он схватился за ветку, стараясь удержаться на ногах, но ветка не выдержала тяжести его тела, согнулась, а он рухнул на спину в снег. Его плечи и голову в приподнятом положении поддерживали толстые ветви другого куста, на который он облокотился при падении. Пока мы стояли у спуска с набережной, пережидая осторожно и медленно поднимавшихся на набережную людей, несущих воду из проруби, я внимательно его разглядывала. По моим тогдашним представлениям о национальностях он был либо кавказцем, либо евреем. У него был ярко выраженный южный тип лица, чёрные густые кудрявые волосы, полукружья черных бровей, почти смыкающихся друг с другом, и орлиный нос. Но мое внимание привлекло совсем другое – из-под полусомкнутых век с густыми ресницами живо блестели огромные черные глаза. Губы у него, в отличие от нас и других голодающих, были ярко-красными, между ними была видна белая полоска блестящих зубов. Когда я перед спуском, ещё раз оглянувшись, посмотрела на него, мне показалось, что он пристально, как живой, разглядывает именно меня. Его поза — рука, крепко ухватившаяся за толстый сук, приоткрытые ярко-красные губы и живой взгляд блестящих глаз придавали ему в моих глазах облик затаившегося хищника, и мне было одинаково страшно и смотреть на него, и повернуться к нему спиной.
Всю зиму мы ходили к бабушке одной дорогой, которая начиналась со спуска на лёд Невы. До начала марта тело этого человека лежало на том же месте, внешне почти не изменяясь. Морозы колебались от 25 до 42 градусов, так что никаких видимых признаков разложения не было заметно. Поэтому и через неделю, и через несколько недель я видела, что у этого человека так же, как у живого, блестят глаза, так же краснеют губы, но шире становится полоска белых зубов, придавая ему, по моим детским впечатлениям, всё более хищный вид. Но самым страшным потрясением для меня стало то, что у него начали расти усы и борода. Нет, росли далеко не все волоски, а только некоторые, образуя клочки длинных волос на верхней губе и подбородке. Они с каждым разом становились всё длиннее и длиннее, и завиваясь, наползали на губы и на шею. Однажды, не выдержав, я, уже спустившись на лёд Невы, осторожно спросила у мамы: «Скажи, у мёртвых людей могут расти волосы?» и, к своему ужасу, услышала от неё в ответ: «Не говори глупости, мёртвые – это мёртвые, они не двигаются, и у них ничего не растёт».
Если бы мама в то время спросила, откуда у меня появилась идея насчёт роста волос у покойников, думаю, что я рассказала бы ей обо всех своих страхах, вызванных у меня этим человеком. Но в тот момент маме не пришло в голову связать мой вопрос с конкретикой нашего существования, и она ни о чём меня не спросила. В результате у меня сложилось твёрдое убеждение в том, что этот человек совсем не умер (или умер, но не совсем), а это означало, что он может подняться и наброситься на прохожих или на меня, если на него очень пристально и долго смотреть, а потом повернуться к нему спиной. Из этого логически следовало — мне на него глядеть нельзя, участок пути от дороги до спуска на лёд я должна пройти, не оглядываясь.
Я до сих пор не могу понять, откуда такая идея попала в мою голову. Может быть, она была результатом чтения гоголевского Вия? Но прочла ли я к тому времени повести Гоголя? Одно могу сказать, что так же, как несчастный Хома, каждый раз, подходя к спуску, я твердила себе: «Не оглядывайся, не оглядывайся, не смотри в его глаза!», но в самый последний момент всё равно оглядывалась назад и встречала взгляд по-прежнему блестящих чёрных глаз. И только в конце марта, когда был отдан приказ об очистке города от снега и нечистот, я, оглянувшись назад, увидела на том месте только обломанные ветви жимолости.
Через несколько лет после войны я рассказала дяде историю и о растущих волосах у мёртвого человека, и о его ярко-красных губах. Дядя, преподававший в Военно-медицинской академии анатомию человека, отнёсся к моему рассказу очень спокойно и пояснил мне, что рост волос у трупов — дело довольно обычное, ведь не все клетки умирают одновременно, а яркая окраска губ умёршего от голода человека, скорее всего говорит о сильном кислородном голодании его организма перед самой смертью. Но о своих страхах, вызванных в результате наблюдений за одним из трупов, пролежавшем около трёх месяцев на улице, я и дяде не решилась рассказать. Действительно, сейчас невольно думаешь, как такой бред вообще мог придти тебе в голову? Объяснение у меня одно — моё восприятие событий было обогащено миром мистических рассказов Гоголя, скорее всего я всё-таки уже прочла «Вия», и панночка самым странным образом трансформировалась в моём воображении в погибшего на набережной молодого человека.
Последний день 1941 года мне запомнился множеством событий. Утром тридцать первого декабря мы с мамой, погрузив дрова на санки, пошли проведать и поздравить маминых бабушку и дедушку с Новым годом. Телефона у нас в квартире до войны не было вообще. Военно-медицинская академия очень хотела поставить его дяде, но дядя был категорически против, находил тысячу предлогов для отказа, так как не хотел, чтобы его вызывали на службу по любому поводу. У маленькой бабушки до войны в квартире был «коммунальный» телефон, висевший на стене коридора. Но к Новому году все телефоны частных лиц из соображений оборонной безопасности были отключены. Поэтому узнать, жив ли человек, не нуждается ли он в чём-нибудь, можно было, только дойдя до него и поговорив с ним лично.
Когда мы пришли к бабушке, она рассказала нам все свои последние новости. Недавно, по пути с передовой на Охту, забегал к ним Виктор. Его пулемётная рота опять была направлена на пополнение, так как к этому времени в ней осталось менее половины положенного состава. От Шурика наконец пришло письмо, что он находится в воинских частях, охраняющих Дорогу жизни, и что штаб этих войск находится в самом конце дороги через Ладогу, в Кобоне.
Мама в свою очередь рассказала о тяжелом заболевании большой бабушки, почки которой постепенно переставали работать в условиях голода и холода. Сильное беспокойство у мамы вызывало и состояние тёти, которая начала сильно отекать. Часа в четыре, когда только начинало смеркаться, мы отправились в обратную дорогу. Не помню, что тогда нас вдохновило на такой подвиг, возможно, желание всем обстоятельствам назло чем-то порадовать себя, но мы по Невскому проспекту дошли до улицы Желябова и затем до ДЛТ, самого крупного универмага того времени. С улицы мы увидели, что магазин работает, на двух прилавках светятся огоньки коптилок, и вошли в него, чтобы немного согреться. За прилавками стояли укутанные в сто одёжек и платки молоденькие продавщицы, работали только два отдела — подарков и игрушек. В отделе подарков наше внимание привлекли работы уральских камнерезов: из белого мрамора были вырезаны четыре фигурки Крыловского квартета. Они мне очень понравились, но стоили дорого. На одну фигурку мама всё же «наскребла» денег и сделала мне новогодний подарок. С тех пор уже более семидесяти лет на одной из книжных полок моей комнаты мраморный мишка продолжает играть на мраморной виолончели.
Когда мы по улице Куйбышева на Петроградской стороне добрели до нашего моста Свободы, было около шести часов вечера, стало темнеть. По мосту в обе стороны ещё брели люди. Вдруг высокий тощий паренёк в ватнике, шедший в одном с нами направлении, зашатался, но не упал, а повис, схватившись руками за перила моста. Мама поддержала его, помогла встать на ноги и спросила, куда он идет. Он шел на Охту в общежитие своего ремесленного училища. «Я просто ужасно замёрз, мне бы хоть немного согреться, я должен сегодня обязательно вернуться в училище». Мама подхватила его под руку: «Пошли греться к нам, сегодня ради Нового года мы затопим плиту на кухне». Пришли. Увы! Кроме кипятка, которым была заварена какая-то аптечная трава, угостить его было нечем. Он сел рядом с плитой, снял ватник и положил его так, чтобы тот вбирал в себя тепло плиты, порозовел, потом начал собираться в дорогу. Мама предложила ему остаться ночевать у нас и вернуться в общежитие утром, но он сказал, что вечером ремесленникам дают кашу и кусочек хлеба с чаем. «Если я не приду, ребята съедят мой ужин, я должен идти». Он ушел. Мама, прощаясь, пригласила его заходить к нам греться, если он будет проходить мимо. Но он у нас так больше и не появился, сумел ли дойти до своего училища или погиб по дороге, мы так никогда и не узнали.
Когда он ушел, мама и тётя меня оповестили, что праздничным угощением у нас будет студень из столярного клея и заваренная кипятком картофельная мука, по чайной чашке на каждого. И тут в моей голове стали рождаться одна за другой просто гениальные идеи относительно поиска чего-нибудь съедобного. Первое, что я сделала, никому и ничего не говоря, это направилась к полкам между входных дверей. Пространство между наружной и внутренней дверью, равное примерно полуметру, всегда использовалось нами как холодильник. В мирное время после походов в лес и на рынок на полках между дверями стояли вёдра с солёными грибами и кислой капустой, обеденные кастрюли. Неужели, думала я, там теперь ничего не найти? И я начала великий «шмон» сверху вниз. Верхние полки были совсем пустыми, а на двух нижних ещё лежали листы упаковочной бумаги. Я стала аккуратно, лист за листом, снимать бумагу с полок. И вдруг внутри одного сложенного пополам листа я что-то нащупала. Развернула лист, а в нём лежат две воблы. Это от папиного обеда осталось, по воскресеньям он любил обедать с пивом и воблой. Правда, рыбины были покрыты толстым слоем ржавчины, но все равно пахли очень аппетитно. И я с торжеством понесла их на кухню. Не думайте, что моей находке не обрадовались, там тоже её одобрили, отмыли с воблы в небольшой воде ржавчину и поставили варить, добавив маленькую горстку пшена из сундучка, не доехавшего до Гостинополья.
Первая находка так меня вдохновила, что я, опять не сказав никому ни слова, отправилась в следующую «экспедицию». В коридоре на одном из шкафов стояла большая корзина с ёлочными игрушками. Я влезла на табуретку и, с трудом не уронив из рук, сняла тяжелую корзину с верхушки шкафа, и тихонечко, на цыпочках снесла её в комнату. Мои ожидания полностью оправдались – среди бус, стеклянных шаров и золотого дождя в ярких обертках лежали четыре длинных, сантиметров по 15-20, конфеты в виде палочек, образованных тонкими разноцветными сахарными трубочками. Издав победный вопль индейцев, я влетела с ними на кухню. Перед встречей Нового года кто-то из взрослых разрезал каждую длинную конфету на несколько маленьких конфеток, и мы все пили с ними чай и при встрече Нового года и даже на следующий день. Так что Новый год по тем временам у нас был просто шикарным!
Бабушка, встречавшая Новый год вместе с нами на протопленной ради праздника кухне, завершила наше празднование, сказав: «Я всё думаю, что было бы с нами, если бы город сдали немцам. Уверена, что они не стали бы церемониться с нами. При всей своей сентиментальности это очень жестокая нация. Скорее всего мы все были бы уже на том свете. Где им прокормить такое количество людей, всю жизнь они сами на эрзацах живут. Слава Богу, что мы всё ещё живы, и дай Бог, чтобы хоть вы все дожили до конца войны, до победы над немцами». На этом встреча Нового года была завершена, и мы разошлись по комнатам спать.
Нашей семье в первую блокадную зиму не повезло с дровами главным образом потому, что именно тот отсек подвала, где был наш сарай и остатки прошлогодних дров, переоборудовали в бомбоубежище. Дрова, оставшиеся от прошлого сезона, а затем и доски, полученные при сносе чердачного и подвального помещений, в начале августа были нами вынесены во двор. Папа, вернувшийся с Лужского рубежа, заколотил их сверху листами старого кровельного железа – это была необходимая мера для защиты дров и от дождя, и от любителей поживиться за чужой счет. Несмотря на крайне экономное расходование этих дров, их запасы быстро закончились, пришлось начать сжигать мебель. В двух наших печках-буржуйках сгорели все венские стулья, огромный дубовый кухонный стол, шикарный (по моему мнению) кожаный диван, папин кабинетный рояль, дядина фисгармония, мелкие шкафчики и скамеечки из коридора. Все понимали, что самой главной была задача выжить в тех экстремальных условиях.
В один из первых дней января, вскоре после празднования нами Нового года, я сидела за столом в нашей комнате в маминой шубке и папиной лыжной шапке с большим помпоном и что-то читала при свете коптилки. Неожиданно в коридоре раздались тяжелые шаги, и в дверях я увидела бабушку, входящую ко мне в комнату. Её появление меня очень удивило, так как бабушка уже давно не могла самостоятельно встать с кровати. Ей помогали подняться и передвигаться по квартире либо тётя, либо мама, а их дома не было. Бабушка смотрела на меня и весело улыбалась, при этом она держала руки перед собой так, как будто несла в них поднос или большую сковородку. «Ты посмотри – сказала она мне – какие красивые, какие вкусные котлеты я нажарила на всех вас. Доставай скорее тарелку, я тебе положу две самые румяные, как ты любишь». До войны бабушка жарила изумительно вкусные котлеты, обсыпанные маленькими кубиками белого хлеба, но сейчас в её руках ничего не было – я растерялась, не понимая, что же я должна теперь сделать. Потом, чтобы её не обидеть, подражая ей, сделала вид, что ставлю тарелку на стол. Она, как это можно было понять по движениям её рук, положила мне со сковороды на тарелку две котлеты и спросила через несколько минут, понравились ли они мне. Я сразу сказала: «Очень», так до конца и не понимая, что же с нею происходит. Внимательно посмотрев на бабушку, я заметила, что её щеки были очень румяными, ярко-голубые глаза неестественно блестели. Она смотрела на меня тем странным взглядом, который как бы и останавливается на тебе и одновременно пронизывает тебя насквозь. Потом бабушка подошла ко мне, погладила меня по голове и сказала, что очень устала от готовки обеда и теперь пойдет отдыхать: «Теперь усну спокойно, и тебя накормила сытно, и Гиле с Валей котлеты оставила». Она вышла из комнаты, и я услышала, как она ложится на кровать. Это была моя последняя встреча с бабушкой, больше живой я её уже не увидела.
Вечером, как только домой вернулись мама и тётя, я им сразу же всё рассказала про бабушку, и тётя кинулась к ней в комнату. Но бабушка уже была без сознания, она бредила и в бреду звала всех четверых своих сыновей, и живых, и давно умерших. Температура у неё поднималась все выше и выше, и не было средств, чтобы остановить её подъём. Несмотря на все усилия, предпринимаемые мамой и тётей, на следующий день бабушка умерла, по заключению врачей от уремии и токсикоза, вызванных заболеванием почек. Это был единственный год в моей жизни, когда никто, включая меня, не вспомнил о моём дне рождения, вероятно, бабушка умерла накануне этого дня.
Всех людей, умерших в нашем доме, заворачивали в простыни, одеяла или в какие-то другие «тряпки» и относили в помещение конюшни, расположенной во втором дворе. Их складывали, один на другого, на остатки сена и соломы на полу конюшни. Вскоре конюшня была оккупирована полчищами огромных, отъевшихся досыта крыс. Когда приходила труповозка — машина, увозящая трупы к местам захоронений, все они были сильно объедены крысами. Зная это, тётя договорилась с мамой, что они отнесут бабушку на конюшню в тот день, когда за трупами приедет машина. О её приезде домохозяйство оповещалось накануне, так как проезд машины во второй двор, где находилась конюшня, был возможен только после открытия замков на воротах. Бабушка после смерти осталась лежать в тётиной комнате до дня приезда машины. Мама с тётей перенесли её на кушетку, а кушетку передвинули к самому окну, где было даже не холодно, а морозно. Перед тем, как унести бабушку на конюшню, меня позвали, чтобы я попрощалась с ней. Лицо бабушки оставалось совсем спокойным, казалось, что она спит крепким сном. И, действительно, только сделав для нас всё возможное, она позволила себе уснуть вечным сном. Такой я её и запомнила.
Моя бабушка лежит на Пискаревском кладбище, под куртиной, обозначенной как «январь 1942 года». Там же или под соседними куртинами нашли своё последнее пристанище мои дворовые и школьные друзья. Это единственное кладбище нашего города, на которое я не смогу пойти ещё раз, чтобы навестить бабушку, на это у меня нет сил. Один раз в своей жизни я была там вместе с чешским учёным, доктором Я. Вейзером, приехавшим в наш город на конференцию. Мы прошли с ним по одной аллее кладбища до памятника и по другой аллее до выхода с кладбища. Мне вдруг стало так плохо, охватила такая слабость, что я начала терять сознание, и если бы не чех, упала бы на дорожку. Меня окружили посетители мемориала, дали какое-то лекарство, но понадобилось время, чтобы я пришла в себя и смогла идти. Создалось впечатление, будто похороненные там люди отняли у меня все жизненные силы. Мне стало ясно, что второй раз живой с этого кладбища я могу и не уйти.
Памятник, поставленный на Пискаревском кладбище, самой большой в мире братской могиле гражданских лиц, по моему глубокому убеждению, мало соответствует этому скорбному месту. Родина-мать представлена женщиной, держащей в руках венок. На абсолютно бесстрастном лице — ни скорби, ни отчаяния: вас много, но венков на всех вас хватит. А Родина должна оплакивать потерю своих детей, и одного, и десятков тысяч. Над этой огромной братской могилой с сотнями тысяч невинно погибших мирных людей нужно было поставить статую, из глаз которой будут вечно течь слезы — и сегодня, и завтра, и много лет спустя, статую, чьё лицо выражает скорбь по всем погибшим детям, женщинам и старикам. Скорее всего, этого не сделают никогда так же, как не сумели и никогда уже не сумеют по-человечески похоронить всех тех, кто погиб в боях за Родину и чьи останки до сих пор лежат на полях или в лесах нашей огромной страны.
Начиная с января, для обеспечения более надёжного контроля за распределением продовольствия, продуктовые карточки прикреплялись к конкретным магазинам. Обслуживающий нас магазин находился в доме, стоящем напротив нашего на другой стороне Финляндского проспекта. Казалось, что тут трудного – перейти через не очень широкую улицу и сразу же заскочить в дверь магазина. Но при длительных обстрелах, «долбёжке» снарядами по одному и тому же месту через каждые 10-15 минут с неопределёнными интервалами между «долбёжками», переход улицы для многих превращался в смертельный номер. Мама, Татьяна Ефимовна и другие женщины из группы самозащиты ежедневно приводили или приносили раненых с улицы, оставляя убитых там, где они упали. Чаще других попадали под обстрел люди, идущие на работу или возвращавшиеся с неё. Опаздывать на работу было нельзя, и никому, смертельно уставшему на работе, не хотелось задерживаться где-то по дороге после её окончания. Уже здесь, в помещении конторы, этих людей перевязывали, раненых тяжело оставляли лежать на полу, подкладывая под голову свёртки из их же одежды. Их дальнейшая отправка в больницу зависела от многих причин, главными из которых были перенос артобстрела на другую точку и наличие работающей санитарной машины.
Окна нашей квартиры и квартиры Татьяны Ефимовны смотрели на Большую Невку и стоящие у нашего берега две подводные лодки, почти без перерыва обстреливаемые немцами. При этих обстрелах сохранялась опасность прямого попадания в наши окна как осколков, так и самих снарядов. Поэтому меня и Гарика, сына Татьяны Ефимовны, на время обстрела отправляли отсиживаться в пустой выморочной квартире на втором этаже, окна которой смотрели во двор, а значит, она была недоступной для прямого попадания снарядов.
Гарик был старше меня на два года и почти на две головы выше. До войны мы с ним не были знакомы, так как его никогда не пускали играть с ребятами во дворе. Я и видела его только несколько раз, когда он, одетый как взрослый в модный брючный костюм и при галстуке, проходил с родителями через двор. Мама, как-то заметив его, сказала мне: — «Какой удивительно красивый мальчик. Он похож на Аполлона Бельведерского, редко увидишь такие правильные черты лица». Увы! Зимой 1941-1942 годов, когда все мы постоянно находились в промерзающих насквозь помещениях, он простудился и подхватил сильный хронический насморк, превративший его в Аполлона, постоянно утирающего носовым платком распухший красный нос.
Я познакомилась и подружилась с Гариком, когда наши мамы, организовав группу самозащиты, стали общаться ежедневно. Он был весёлым и добрым мальчиком, любителем анекдотов и приключенческих книг, так что мы быстро нашли интересные нам темы для долгих разговоров и не скучали от длительного общения при обстрелах нашего района.
Муза при обстрелах оставалась с родителями дома, так как окна их комнат на втором этаже находились в самой узкой части двора, что гарантировало от попадания в них и снарядов, и их осколков.
Несмотря на начавшуюся ещё в конце ноября доставку продовольствия в город по льду Ладожского озера, продуктов катастрофически не хватало, сильнейший голод продолжался. Именно в двадцатых числах января было три дня, в которые население не получило вообще ничего, даже мизерной порции хлеба. По сарафанным данным того времени это привело к ежедневной гибели более 25 тысяч человек, продолжавшейся в течение нескольких дней.
В январе люди погибали не только от голода и обстрелов, но и от продолжающихся бомбёжек. Недалеко от нас, на Нижегородской улице (теперь улице академика Лебедева), напротив здания Военно-медицинской академии, между улицей Комсомола и Финским переулком стоял узенький дом, встроенный между двумя “солидными” домами старой застройки. Именно в него попала бомба, скорее всего осколочная, и он сложился аккуратным холмиком строительного мусора между двух уцелевших соседних домов. Люди, спустившиеся в бомбоубежище, остались живы, сквозь толщу обрушившихся перекрытий были слышны крики о помощи. Но ни у кого — ни у родственников этих замурованных в подвале людей, ни у жильцов соседних домов, ни у девушек из отрядов ПВО, изможденных длительным голоданием, не было сил на разбор завала, образовавшегося при разрушении многоэтажного дома. Чтобы не слышать криков о помощи, люди, идущие на работу по этой улице, не переходили на ту сторону, где был разбомблённый дом, а шли по противоположной стороне. Вернувшись с работы и заглянув в домохозяйство по дороге домой, они рассказывали нам об этом со слезами бессилия на глазах. Морозы в эти дни стояли сильные, через несколько дней развалины замолчали.
В городе не было горючего. Пожарные машины стояли. Поэтому, если в здании возникал очаг пожара, который не сумели потушить жители этого дома, огонь постепенно распространялся по всем помещениям. Пожар длился до тех пор, пока было чему гореть и в доме не выгорало всё, до чего добирался огонь. По несколько недель продолжали гореть и дымиться здание студенческого общежития Ленинградского университета на проспекте Добролюбова и старинный многоэтажный дом на улице Чайковского вблизи Моховой, очень похожий на дом 26/28 по Кировскому проспекту. Мы с мамой неоднократно проходили мимо этих горевших домов, каждый раз удивляясь длительности пожара. Здание студенческого общежития ЛГУ было по пути в госпиталь, размещавшийся в здании исторического факультета, где лежал раненный в голову мамин брат Виктор. Второй дом находился по пути к бабушке. Возможно, что в начале пожара в этих домах полыхал сильный огонь, было много дыма, но мы видели совсем другую картину. На разных этажах, в разных помещениях здания что-то горело, слышалось громкое потрескивание горящего дерева, разноцветными струями выползал из окон и дверей дым. При порывах ветра вспыхивал огонь, освещавший проёмы окон. Дома медленно догорали, а огонь неделями продолжал методично искать и находить ещё не сгоревшие их участки и любой горючий материал. Когда я в 1949 году поступила в университет, нас, первокурсников, посылали в отремонтированное к этому времени здание общежития убирать строительный мусор, накопившийся в помещениях после завершения восстановительных работ.
Как я уже упоминала, 1942 год был единственным, когда о моём дне рождения все совсем-совсем забыли и из-за смерти бабушки, и, вероятно, из-за того, что отмечать его нам всё равно было бы совсем нечем. Даже я о нём вспомнила только на следующий день, когда к нам прибежала Муза и сообщила, что ночью умер папа, а мама легла рядом с ним, обняла его, а ей сказала, что она не хочет больше жить и умрёт вместе с ним. Муза рыдала, моя мама старалась её утешить, а потом собралась и пошла, чтобы на месте выяснить, насколько серьёзно обстоят дела.
Родители Музы были интересной парой. Папа, Павел Юльевич Цизмер, был из немцев. Он работал фармацевтом в маленьком аптечном магазинчике на Нижегородской улице, размещавшемся в доме, разбомблённом в январе. В магазине он исполнял все должности, второй человек в это помещение размером с ларёк уже не поместился бы. До войны на всех витринах мужских парикмахерских был изображен мужчина с гладко зачёсанными на косой пробор волосами и маленькими изящными усиками, как у американского киноактёра, кажется, Дугласа Фербенкса. Какое-то время я была твёрдо уверена в том, что это портреты Музиного отца, так как он именно так и выглядел. У него был туберкулёз, переходящий в открытую форму, поэтому в армию его не взяли. Мама Музы, Полина Ивановна, была очень миловидной женщиной из провинции, без памяти влюблённой в своего мужа и всегда смотревшей на него как на существо высшего порядка. Как и моя мама, она была очень хорошей домохозяйкой, умеющей содержать дом и вкусно накормить своё семейство, несмотря на размеры зарплаты своего благоверного.
В начале ноября аптекарский магазин закрыли, так как организация, которой он принадлежал, перестала и существовать, и платить своим работникам зарплату. После закрытия магазина Музин папа передал моей маме для меня две бутылочки из аптеки, одну с рыбьим жиром (бр-р-р), другую с экстрактом шиповника – вдруг пригодятся. Разумеется, зимой они ещё как пригодились, особенно шиповник, похожий на варенье. Рыбий жир даже в самое голодное время не только не доставлял мне никакого удовольствия, но и с трудом мною проглатывался, но, раз я выжила, пошёл мне на пользу.
Мама вместе с Музой отправилась выяснять, чем можно помочь Полине Ивановне и как можно вывести её из шокового состояния. Когда мама вошла в их комнату, Полина Ивановна лежала на диване, положив голову на грудь умершего мужа и крепко его обняв. Услышав мамин голос, она сразу же сказала, что вставать не собирается, останется так лежать и не шевельнётся, пока не умрёт. Затем добавила, что просит обязательно похоронить их вместе. На все мамины уговоры встать и покормить Музу, заняться похоронами Павла мотала отрицательно головой и просила оставить её в покое. Не добившись ничего, мама вернулась домой очень расстроенная: «Если не удастся вывести Полину Ивановну из этого состояния и она действительно умрёт, мы, конечно, возьмём Музу к себе, тебе будет сестрёнка, но лучше было бы заставить её жить, а не делать Музу круглой сиротой».
Несколько дней подряд мама ходила к Музиной маме. Она садилась рядом с Полиной, продолжавшей лежать, обняв Павла, и непрерывно уговаривала её подумать о дочери и её дальнейшей судьбе без матери. Первой маминой победой было, когда ей удалось убедить Полину встать, чтобы зашить тело Павла в одеяло и отправить его для захоронения на конюшню. После этого стало возможным уговорить её протопить в абсолютно застывшей комнате буржуйку. Потом мама убедила Полину сходить в магазин и выкупить продукты по карточкам и, наконец-то, приготовить еду для себя и для Музы. В тот день мама пришла домой радостная и сообщила нам с тётей: «Раз начала готовить и заботиться о Музе, думаю, будет жить». Вскоре, чтобы получить рабочую карточку с большей нормой хлеба, Полина Ивановна устроилась старшим рабочим на наш мост Свободы.
Где-то в середине января мы нагрузили санки мелко наколотыми дровами и отправились навещать маленькую бабушку и деда. Было около 4-х часов дня, но из-за низкой облачности уже смеркалось. Когда мы подошли к Неве, я опять, как при каждом переходе через реку по льду, не выдержала и перед самым спуском оглянулась на кусты жимолости, ветки которых прогибались от снега, а под ними, держась рукой за одну из веток, по-прежнему лежал мертвый парень.
В этот день спуск заледенел от верха до самого низа, так как почти все, кто нёс воду из проруби, при подъёме наверх выплескивали воду. Мы с мамой не сошли, а поскользнулись и скатились «на пятой точке» вместе с санками вниз. Мама вздохнула: «Придётся нам с тобой возвращаться домой по Литейному проспекту (этот путь был значительно длиннее, чем прямиком через Неву), вечером наверх по этому катку будет не подняться»
Мороз в тот день был сильнейший, где-то далеко за 30 градусов. Русло Невы, заключённое с двух сторон в высокие гранитные набережные, в ветреную погоду превращалось в аэродинамическую трубу. Переход по льду поперёк Невы, на просторах которой ветер завывал и ощущался всегда значительно сильнее, чем на городских улицах, был сравним, по моему тогдашнему глубокому убеждению, только с походом Р. Скотта к Южному полюсу. И нигде Нева не казалась такой величественной, какой её видели мы, находясь на её середине. Ветер то толкал тебя в спину, заставляя бежать, то не давал сделать шаг вперёд, превращая твоё зимнее пальто в парус и пытаясь затолкать тебя обратно. Лицо от холода немело, мы останавливались через каждые пять минут, поворачивались спиной к ветру, до боли тёрли перчатками щёки и носы, и снова шли вперёд. У бабушки с дедом дров почти не было, надежда была только на нас.
Когда мы добрели до бабушки, наши силы были на исходе. В двери пришлось долго стучать, так как на дверях бабушкиной квартиры было несколько (по количеству соседей), но только электрических звонков, а электричества не было и в помине. Первое, что мы сделали, когда нам открыли дверь – кинулись к топящейся буржуйке и постарались отогреть онемевшие руки. В большой комнате было темно и холодно, на обеденном столе еле теплился огонёк коптилки, дед сидел в шубе и валенках, бабушка была закутана в большой шерстяной платок. На буржуйке стояла маленькая кастрюля, в ней что-то кипело. «Сейчас я вас всех порадую — сказала бабушка – вчера я разбирала нижнюю полку в буфете, и у самой задней стенки нашла рассыпанную вермишель. Она уже варится, мы поужинаем вместе». Бабушка достала всем тарелки, принесла кастрюлю и разложила на тарелки вермишель всем поровну, вышло где-то чуть больше столовой ложки. Я первая придвинула к себе свою тарелку, после нашей прогулки нестерпимо хотелось есть. Но когда я взглянула на вермишель, то даже при слабом свете коптилки увидела, что на дне тарелки лежит примерно равное количество вермишелин и варёных личинок мучного хрущака, больших и толстых. Я остановилась, и как только бабушка отошла к буржуйке за чайником, шёпотом сказала маме: «Посмотри! Здесь столько же червей, сколько вермишели, я не смогу…». Мама быстро зажала мне рот: «Ешь! И ни слова больше!». Кроме меня никто личинок не увидел, вермишель съели с большим аппетитом, за пять минут с ужином было покончено. Перед выходом на улицу мы выпили по чашке кипятка и отправились домой по Литейному проспекту и через Литейный мост. Самым удивительным для меня было то, что живот у меня не разболелся (а мог от одной только моей мнительности) и даже появилось, хоть и краткое, чувство сытости. Поэтому в дальнейшем я с полным пониманием отнеслась к рассказу К. Причард, которую австралийские туземцы, когда она заболела, успешно до полного выздоровления кормили личинками насекомых. В некоторых ситуациях и они могут быть благом.
Обратно мы, помня об обледеневшем спуске в Неву, возвращались по четной стороне Литейного проспекта. Когда мы дошли до ворот Куйбышевской (теперь Мариинской) больницы, то увидели, что внутри больничного сада на расстоянии двух-трёх метров от чугунной ограды как дрова уложены трупы людей. Они лежали от ворот до середины ограды, где она делает полукруг, образующий выемку, в центре которой на постаменте стоит большая чаша со змеёй – символ медицинского учреждения. В начале и конце этой жуткой «поленницы» трупы были уложены крест-накрест, чтобы тела, лежащие между ними, не рассыпались по сторонам. Высота этой кладки трупов приближалась к двум метрам. Со стороны проспекта были видны то головы, то босые ноги. Кто-то был одет, кто-то был совершенно голым. По центру этой «поленницы» лицом к проспекту был поставлен почти двухметровый ярко рыжий мужчина лет сорока. Он был абсолютно голым, с грудью и животом, покрытыми густым рыжим мехом, и руками, крест-накрест сложенными на груди. В руки была всунута палка огромной метлы, прутья которой торчали над его головой. Мужчины, проходившие в это время мимо больничной ограды, бросили друг другу короткие реплики: «Своих сторожит», «И после смерти не сдаёмся!». В их словах звучало скорее одобрение, но никак не возмущение увиденным. Приходится признать, что война и повседневные смерти рядом с тобой и вокруг тебя кардинальным образом меняют оценки всего происходящего.
Я же первый раз в своей жизни увидела совершенно голого мужчину, по поводу увиденного у меня моментально возникло множество вопросов, но я так и не решилась задать их маме. Мама же, когда мы отошли на приличное расстояние от больницы, сказала: «Хорошо, что у нас на участке все умершие лежат в конюшне, не на виду у живых, и их никто не беспокоит излишним вниманием, и они не напоминают нам ежеминутно о возможной смерти».
Голодные смерти продолжали уносить многих. Страшным следствием длительного голодания стал каннибализм. В одном из соседних домов жила мамина приятельница, они регулярно встречались, когда выходили с детьми гулять в сквер на берегу Невки, мама со мной, ещё маленькой, а женщина с грудничком в коляске. Они обычно сидели рядышком на одной скамейке, загорали и вышивали. Её сынишка в сентябре сорок первого года должен был пойти в первый класс, но школы не работали, и он «хвостиком» повсюду следовал за своей мамой.
Однажды, когда мама очередной раз дежурила в конторе на телефоне, её приятельница вся в слезах буквально ворвалась в контору и сообщила об исчезновении своего семилетнего сынишки. Она пошла вместе с сыном в продовольственный магазин, расположенный напротив нашего дома, и так как там была длинная очередь и много народа, оставила его, как всегда, на улице перед входом. Пока она стояла в очереди, прошло какое-то время, и когда она вышла на улицу, сына нигде не было. Она добежала до своей квартиры, по пути заглянув во все подъезды, и поняла, что случилось что-то страшное.
Наш квартальный и все члены группы самозащиты, бывшие в конторе, вышли на улицу и начали опрос буквально каждого из встреченных ими людей. Опрашивали тех, кто ходил в этот день в магазин, кто был рядом с магазином, кто просто входил или выходил из дома примерно в это время — не видел ли кто-нибудь из них тёмно рыжего мальчика, одного или с кем-нибудь. В результате опроса почти всех живущих в нашем микрорайоне людей было выяснено, что две женщины видели похожего мальчика, идущего за руку с незнакомой девушкой. Девушку никто не знал. Где искать мальчика — никто не представлял.
Через несколько дней мамина знакомая опять пришла в контору. Трясущимися руками она развернула носовой платок, в который был завёрнут скальп ее сына. Ошибиться было невозможно – такие круто курчавые шоколадно-рыжие волосы были только у неё и у её сына. Тряслись не только её руки, непрерывно сотрясалось всё её тело, на лице застыло странное выражение, смесь одержимости и отчаяния. «Пойду искать его голову». Говорить ей, что если бы каннибалы думали не трогать голову, они не стали бы снимать скальп, было бесполезно. Она никого не слышала и ничего не воспринимала. Положила платок в карман и вышла из конторы искать голову сына на помойках. Через несколько дней она появилась в конторе домохозяйства опять, теперь с новым скальпом – светлые длинные волосы были заплетены в две косички с бантиками на концах. На нашем участке заявлений о пропаже девочки ни от кого не поступило, возможно, что её мама умерла раньше её пропажи, или же эта девочка была приведена к нам на съедение из какого-то другого района.
Почти каждую неделю вскоре после наступления комендантского часа, а иногда и посреди ночи, раздавался звонок в нашу дверь: «Начальника группы самозащиты! На обход территории!». Мама быстро вылезала из-под одеял и выходила из квартиры (мы ведь все спали, не раздеваясь, одетыми), вместе с военным или милицейским патрулём обходила несколько домов, отвечая на многочисленные вопросы о состоянии дел на участке. Обход обычно длился короткое время, так как большинство квартир было опечатано – либо все уехали, либо все умерли. Патрульные тщательно проверяли все двери — хорошо ли приклеены бумажки. Звонили только в те квартиры, в которых жили люди, обычно спрашивали, нет ли посторонних, и тщательно осматривали все жилые комнаты.
Вскоре после ужасных находок на помойках скальпов маленьких детей поздним вечером раздался звонок. Маму ждал милицейский патруль. На этот раз мамин путь оказался очень коротким, в пределах нашего дома. На первом этаже четвертой лестницы, имевшей выход только во двор, в опустевшую квартиру поселили двух (или трёх) очень симпатичных девушек из пригорода, устроившихся работать на завод. В отличие от большинства женщин нашего дома они не были ни истощёнными, ни бледными. Это никого не удивляло, так как все знали, что многие в пригороде имели свои приличные огороды. Снятого ими урожая картофеля хватало даже на то, чтобы продать часть урожая близким знакомым или выменять его на антиквариат или драгоценности.
Когда патруль вошел в жилую комнату, в каминной печи весело трещали дрова, на них стояла кастрюля, полная мяса. Сомнений в том, что это мясо человеческое, ни у кого из вошедших в комнату не возникло, другого в городе просто не было. Это было видно и по поведению девушек, которые заметались по комнате, пытаясь выскочить наружу. Старшему патрульному от одного вида и запаха этого мяса стало плохо, он выскочил из квартиры, его тошнило. Плохо было и маме, она вернулась домой и долго сидела рядом с буржуйкой, подбрасывая в топку листы книг. Девушек арестовали, кастрюлю с мясом для анализа взяли с собой. При следующем обходе эти же патрульные рассказали маме, что при допросе девушек выяснилось, что они выманили, убили и съели по крайней мере ещё двух детей. Самое ужасное заключалось в том, что они по-настоящему, как все другие, и не голодали, им, как они объясняли следователю, просто захотелось мяса для полноценного питания. Их дальнейшей судьбы я не знаю, но в народе ходили слухи, что каннибалов расстреливали.
Мамина знакомая, лишившаяся таким жутким образом своего единственного сына, так и не смогла оправиться. Нервное потрясение было таким сильным, что она частично потеряла память, совершенно не могла ни сосредоточиться, ни работать, и вскоре после окончания войны умерла.
В один из январских вечеров к нам, по дороге от бабушки на фронт, заскочил Виктор. Окопы его пулемётной роты были на Средней Рогатке, недалеко от Пулковских высот, но не на холмах, а внизу, на заболачиваемых осенью участках совхозных полей. Копать окопы до морозов было бесполезно, они сразу же заполнялись водой. Для защиты от пуль делали земляные холмики или валы. Немцы уже обосновались в Пушкине и их окопы на местности были расположены более высоко, чем наши, в основном на склонах холмов. Между расположением дядиной роты и немецкими окопами стояли неубранные поля капусты. «И вот представьте – рассказывал Виктор – однажды поздно вечером из немецкого окопа раздаётся: «Рус, иди капусту жрать, стрелять не будем, офицер ушел спать в тёплую постель». Мы медлили, считая это провокацией. Но потом двое солдат не выдержали и поползли за капустой, есть то очень хотелось. Тихо, никто не стреляет. Так мы все по очереди за капустой и ползали. Капуста промёрзла насквозь, ледяная, мы ее за шиворот, немного отогреем и в рот. Недели две так кормились, а потом немец замолк. То ли свои его пристрелили за нашу кормёжку, то ли мы его ненароком подстрелили. Война, пуля не разбирает, кто плохой, а кто хороший. А нам теперь до капусты уже не добраться, сразу стреляют».
На Астраханской улице, напротив нашего дома в доме 5/7, полностью освободившемся от всех своих жильцов, разместился партизанский штаб. Молодые спортивные парни обучались здесь всем тонкостям военных и диверсионных работ. Внешне дом производил впечатление нежилого и всеми заброшенного – окна первого и второго этажей были заколочены досками, все двери наглухо закрыты, ни один человек в дом не входил и из дома не выходил. Наша группа самозащиты, искавшая противопожарный инвентарь в заброшенных помещениях, узнала, что дом обитаем, когда попробовала взломать входную дверь на лестницу. Всем, кто участвовал в этой операции, появившиеся из глубин дома военные кратко, но убедительно объяснили, что туда лучше не совать свой нос и вообще лучше забыть, что они кого-то в этом доме видели. И только девчонки из МПВО поздними вечерами, в темноте, бегали на свидания и на проводы своих милых. Забросив в немецкие тылы одну группу, штаб сразу же приступал к подготовке следующей группы. Обратно возвращались немногие, кто погибал, кто присоединялся к действующим там партизанским отрядам. Мама сказала мне: “Вот отправила бы тебя в эвакуацию, обязательно пошла бы в партизаны”.
Однажды, в особенно холодный день, мы с мамой расхрабрились, спустились во двор и принесли дрова, чтобы протопить печь в нашей комнате. Когда дрова хорошо разгорелись, мы открыли печную дверцу и сели к ней поближе, наслаждаясь теплом. Неожиданно объявили воздушную тревогу. По инструкции в этом случае полагалось загасить все источники открытого огня, но у нас дома оставалась только одна на двоих кружка воды. Поэтому мы просто закрыли дверцу на задвижку и остались сидеть вблизи уже нагревшейся печки. В какой-то момент услышали жуткое завывание падающей, казалось прямо на нас, бомбы, Немцы специально сконструировали стабилизатор, издающий при падении устрашающий вой. Пол под нашими ногами сильно содрогнулся несколько раз, и мы с мамой с ужасом увидели, что печь отошла от стены, и нам показалось, что она падает на нас. Но печь не упала, а качнулась несколько раз, амплитуда каждого следующего наклона была всё меньше и меньше. Затем печь замерла на своём законном месте, и даже патрубок, соединявший печь с трубой, выходящей на крышу, аккуратно встал на своё место, как будто не мотался только что вместе с печью из стороны в сторону. Наступила «гробовая» тишина. Придя в себя, мы поняли, что так сильно качался сам наш дом, а печь при этом честно сохраняла свойственное ей вертикальное положение. На следующий день все соседи говорили о плавунах, на которых стоял наш дом. По версии самых первых жильцов нашего дома они сильно досаждали строителям при постройке дома. Возможно, именно они и позволили дому раскачиваться при сильном сотрясении грунта. Интересно, есть ли в нашем городе хоть один дом современной постройки, который не развалится на составные части после такого раскачивания. Честно говоря, сильно сомневаюсь.
На следующий день мы узнали, что фугасная бомба весом в полторы тонны упала метрах в тридцати — сорока от фундамента нашего дома, в маленьком скверике напротив почтового отделения. Бомба не взорвалась. Она ушла в землю так, что в образованной от её падения яме, на глубине около метра был виден только её стабилизатор. От комитета по обороне поступило распоряжение – бомбу выкопать, вывезти на машине и взорвать на приличном расстоянии от жилых домов. За целый день раскопок ослабевшие от голода девушки из ПВО смогли освободить от земли только верхнюю половину бомбы. Прибыв для продолжения работ на следующий день, они увидели, что бомба опять ушла в землю по самый стабилизатор. За этот день они вновь смогли откопать только половину бомбы. На третий день в яме было пусто, бомба исчезла. Геологи также объясняли это тем, что под этой частью города имеются плавуны – слои мокрого песка, перетекающие под землей наподобие рек. И высказали предположение, что бомба достигла плавуна, и теперь он несёт её по своему течению к реке, в направлении нашего дома. Какое-то время это предположение беспокоило всех нас, но бомба не давала о себе знать и вскоре о ней забыли.
Если наш участок интенсивно не обстреливался, то после смерти большой бабушки я целые дни проводила в нашей квартире, и была одна. Когда было нечем топить буржуйку – температура в комнате падала ниже нуля. Окна до весны оставались забитыми фанерками и старыми одеялами. Единственным источником света в квартире оставался слабый огонёк коптилки. Не помню, чем коптилки «заряжались», но это горючее давало много копоти. У всех блокадников были черные ноздри, и часто под носом на верхней губе и у женщин, и у мужчин появлялись две черные полосы, как франтоватые усики. По трансляции передавали последние новости, иногда стихи Ольги Берггольц, но чаще слышался только стук метронома, сердца Ленинграда. Я уже дважды перечитала всю свою детскую библиотеку – любимых мною Майн Рида, Уэллса, Жюля Верна, Киплинга, Чарушина, Пришвина, Мариетта. Ну, сколько раз, не теряя интереса, можно было читать одно и то же?
И вдруг я вспоминаю, что в коридоре стоит ещё один большой книжный шкаф, из которого книги брали только взрослые, а взяв или положив в него книгу, шкаф всегда запирали на ключ. Я ставлю перед собой задачи. Итак, первая – найти ключ. Ключ я нашла быстро, так как вспомнила, как мама или тетя вставали на цыпочки и прятали ключ на шкафу. Шкаф украшала деревянная резьба, над остеклёнными дверцами по центру верха была арка из лавровых листьев, а по бокам стояло по шишке, размером с большую грушу. Я приволокла с кухни стул, влезла на него и нашла ключ за правой деревянной шишкой. Теперь надо было решить вторую задачу — как доставать ключ в дальнейшем, потому что появление стула посреди коридора сразу же заинтересует и маму, и тётю, и тогда вся моя затея полетит прахом. Врать я не любила принципиально, но если никто и ни о чём тебя не расспрашивает, разве обязательно надо обо всём рассказывать? После долгих блужданий по тёмной квартире я нашла в бабушкиной комнате под её кроватью деревянную скамеечку, встав на которую и приподнявшись на цыпочках, я могла легко и взять ключ и положить его обратно, за шишку. Сама же скамейка удачно помещалась между шкафом с книгами и дядиным шкафом с коллекцией черепов. Теперь оставалась третья, самая сложная, задача — отработать технику быстрого возврата книги на место после звонка в квартиру возвращающихся домой мамы или тёти. Здесь нужна была тренировка, как у разведчика перед выполнением ответственного задания.
Я шла в мамину комнату, садилась за стол, говорила: «Дзззинь!», срывалась с места вместе с книгой, подбегала к шкафу, стоявшему в коридоре на полпути к кухне, ставила книгу на пустое место, закрывала дверь, поворачивала ключ, вынимала его и, вскочив на скамейку, запихивала за шишку. Оставалось ударом ноги отправить скамейку в пространство между шкафами и идти открывать двери. При этом было неплохо иметь чуть заспанный вид, чтобы всем было понятно, почему двери открываются не сразу. Тренировку я проводила с точной фиксацией потраченного на неё времени, Дедушка на мой предвоенный день рождения подарил мне часы, чтобы я умела беречь время и строго соблюдала сроки возвращения домой. После десятка повторений процедуры я сократила время на неё почти вдвое. Теперь можно было знакомиться с содержимым шкафа. За всё время чтения «взрослой» литературы я допустила ошибку только один раз, когда повернула ключ, не плотно прижав дверь, и положила ключ наверх. Однако ни мама, ни тётя не заметили, что дверь шкафа была просто прижата, так как в коридоре было темно и по нему ходили, касаясь рукой противоположной стенки, где не было мебели.
Как только я оставалась одна, я приступала к ознакомлению с содержимым шкафа. Две верхних полки занимала медицинская литература. Меня она не заинтересовала. На третьей сверху полке стояли поэтические сборники, в основном на немецком языке (тётя окончила немецкую гимназию и очень хорошо знала этот язык), но также Тютчев, Апухтин и все вышедшие к тому времени сборники Анны Ахматовой, самой любимой тётиной поэтессы. На других полках стояли сочинения Кнута Гамсуна и Сельмы Лагерлёф (также очень любимых тётей), Тургенева, Мопассана, Куприна, Бальзака, Киплинга, Достоевского, Лондона и многих других западноевропейских, русских и американских писателей. Из всего прочитанного в то время на всю жизнь мне запомнилось только несколько произведений. «Мать уродов» Мопассана поразила меня своей бесчеловечностью, а «Монт-Ориоль» предательством. Несколько дней после прочтения повести я придумывала тысячу способов, как спасти несчастного героя от ужасной гибели — остаться без еды, без воды и даже вероятно без воздуха. Ситуация была так похожа на нашу и так мне понятна!И каждый раз я находила способ спасти его. Я никак не могла оправдать главную героиню и представить, как после заточения любимого человека эта женщина вообще могла жить. С большим удовольствием читала Тургенева. Пролила слёзы над Базаровым и возненавидела Герасима. Уж если он смог наконец-то хлопнуть дверью и уйти от хозяйки, то почему утопил, а не спас Муму? Очень понравилось и осталось на всю жизнь любимым «Сказание о Йосте Берлинге» Лагерлёф. Мне кажется, что это было первое прозаическое произведение, в котором я встретилась с поэтичностью самой прозы. С большим любопытством прочитала роман «Проститутка» какого-то знаменитого французского автора. В нём рассказывалось о двух девушках, приехавших в Париж и в силу печальных обстоятельств ставших проститутками. Одна героиня опускалась все ниже по социальной лестнице, а другая, имевшая сильный характер, сопротивлялась обстоятельствам и выбралась с житейского дна наверх. Читать было интересно, единственное, что для меня оставалось непонятным, так это, кто же они такие, эти проститутки. Решила всё-таки спросить маму. На мой вопрос сразу же последовали встречные вопросы: «Где ты услышала такое слово? Почему об этом спрашиваешь?». Невольно пришлось соврать, что слово услышала в магазине, и честно сказать, что спрашиваю потому, что не знаю, кто они такие, интересно же это узнать. Мама немного подумала и ответила: «Это такие женщины, которые за деньги говорят мужчинам, что они их любят». «И мужчины платят им деньги за то, что они им врут?». «Вообще, это довольно часто происходит в жизни» — философски отметила мама и вздохнула. Честно говоря, у меня и тогда уже создалось впечатление, что мамино объяснение не совсем соотносится с прочитанным текстом. Но другого объяснения у меня в ту пору не было. Это придавало французскому роману в моих глазах ещё больший ореол таинственности. Хочу только добавить в своё оправдание, что в этом романе, написанном в начале прошлого века, самым вызывающим было его название, а само содержание было намного целомудреннее такового многих современных повестей для молодёжи.
Однажды на нижней полке книжного шкафа я нашла очень истрёпанную временем и читателями книжку — без обложки и напечатанная на рыхлой газетной бумаге она была вложена в папку для деловых бумаг и долгое время не привлекала моего внимания. Это был единственный (из известных мне) мистический роман Джека Лондона «Тысяча жизней». Я читала, не отрываясь, про жизнь храброго и вспыльчивого человека в разные эпохи цивилизации – в древнем Риме, в Средние века, в современном мире. Каждая история кончалась его смертью в сражении с врагом, а его душа переселялась в человека с тем же характером, но уже в следующей эпохе. Книга скоро рассыпалась на отдельные листочки, а мои попытки в послевоенные годы найти этот роман и перечитать его вновь, окончились неудачей.
Если в моей детской библиотеке почётное место занимал Маугли Киплинга, прекрасно иллюстрированный рисунками Ватагина, то во взрослой библиотеке я нашла другого героя этого же автора — Кима. Этот роман считается прародителем шпионских романов, но меня он покорил, в первую очередь, авторской передачей тех ярких впечатлений, которые народы, их обычаи и природа Индии произвели на европейца, длительно живущего в этой стране. Кстати, в этом романе Киплинга дана глубокая, очень продуманная характеристика Северных княжеств Индии – Афганистана и населяющего его народа, нашедшая своё полное подтверждение в наше время.
И мама, и тётя очень сильно похудели. К концу января сундучок с продуктами опустел, добавлять к тому, что мы получали по карточкам, практически стало нечего. Тётя выглядела особенно плохо, так как стала сильно отекать. Она была очень белокожей, пять минут пребывания на солнце вызывали у неё сильные ожоги, вплоть до пузырей. Но теперь её кожа на тех местах, где отёки были особенно сильными, казалась голубой. Отёкшие верхние веки нависали над глазами, по утрам почти полностью прикрывая их, для глаз оставались только узенькие щёлки. Мама стала просто очень тощей, ввалились щёки, кожа обтянула скулы, но отёков у неё не было. На общем фоне лучше всех выглядела я, так как моя физиономия оставалась почти такой же круглой, как раньше. Это вызывало сильное беспокойство у мамы, которая боялась, что меня похитят и съедят. Каждое утро мне приходилось выслушивать от неё, какие меры предосторожности я должна соблюдать, о чём не должна забывать ни на минуту. Со второго раза я на всю жизнь запомнила: “Не верь тому, что я тебя где-то жду, не входи в пустой подъезд с незнакомыми мужчинами или женщинами, не открывай двери незнакомым людям, всегда носи в кармане бумажный кулёчек с молотым перцем”. Поэтому, услышав всё это в третий раз, я завопила: “Помню, помню, помню!”, но всё равно пришлось выслушать маму ещё несколько раз.
И вот однажды, когда дома никого кроме меня не было, раздался звонок. Я подошла к дверям и спросила, кто пришел. Молодой мужской голос ответил: “Ты Ирма? Я прилетел с севера и привез тебе с мамой посылку от папы. Мама жива? Дома? Нет? Вот когда мама вернётся, пусть возьмёт паспорт и санки и придёт в Дом Красной армии на Литейном проспекте. Мы с посылками будем там на втором этаже”. Тут я, несмотря на мамины инструкции, открыла дверь, чтобы посмотреть, кто же пришел, и увидела парня в белом военном полушубке. Он улыбнулся мне и сказал: “Хорошо, что вы живы, а то я почти никого живого и не нахожу. Отмечаю вас в списке, приходите за посылкой хоть сегодня поздно вечером, хоть с утра, мы там и ночевать будем”. “Поздно вечером у нас будет комендантский час”. “Тогда приходите до него”. И он помчался по лестнице вниз.
После его ухода я решила ускорить события. Закрыла дверь на ключ и пошла в контору домохозяйства, надеясь найти маму там. И нашла. Мама очень обрадовалась моему сообщению, оставила кого-то дежурить за себя, и мы пошли домой за санками и документами.
Уже стемнело, когда мы добрались до Дома Красной армии. Нас сразу же пропустили и показали, куда надо идти. Когда мы вошли в большое слабо освещённое помещение, то в середине его увидели военного, сидящего за столом. Перед ним были разложены бумаги с фамилиями и адресами тех, кому они привезли посылки. С одной стороны стола стояло много посылок, с другой – значительно меньше. Военный взял мамин паспорт и пошёл к тем посылкам, которых было меньше, нашёл нашу посылку и принёс её нам. Мама расписалась в его бумагах и спросила, долго ли ещё они будут в нашем городе. “Вот раздадим эти посылки {он кивнул головой в сторону малой кучи} – потом оформим передачу в детские дома тех посылок, адресаты которых умерли {он кивнул головой в сторону большой кучи} и обратно, на фронт в Карелию”.
Папа, узнав о начавшемся в Ленинграде голоде, весь свой командирский паек не съедал, а откладывал в сторону в надежде на то, что его удастся отправить нам. Наши физические возможности в конце января были на исходе, и если бы этой посылки не было, скорее всего мы бы не дожили до весны. В посылке было несколько баночек со шпротами и с говядиной, были и солдатские сухари, представить себе что-нибудь вкуснее их в ту пору было невозможно. Присланными папой продуктами мы поделились с тётей и маленькой бабушкой.
Потом от папы пришло письмо, в котором он рассказал нам такую историю. Когда он ходил обедать, собака, обитавшая рядом с полевой кухней, всегда подбегала к нему за кусочками хлеба, которые папа выносил ей из палатки, где кормили весь состав этой воинской части. В тот день, когда он узнал, что в Ленинград полетит самолёт, на котором можно будет отправить продуктовую посылку, его осенила идея, что если накануне отлёта самолёта он застрелит эту собаку и разделает её тушку, то сможет выслать нам так необходимое всем мясо. Когда он вышел из палатки, к нему подбежала собака, и он, как всегда, кинул ей хлеб. Собака вдруг подняла голову и очень пристально посмотрела ему в глаза, затем отбежала. В дальнейшем она всегда держалась от папы на расстоянии выстрела. Папа писал: «Вероятно, в моих глазах она увидела свой смертный приговор, но как она это поняла? Всё-таки, как мало мы знаем о животных, даже живущих рядом с нами».
Когда мы в очередной раз пришли к бабушке с дедом, отвозили им дрова и баночку шпрот из папиной посылки, сразу поняли, что произошло большое несчастье. Бабушку мы застали в горьких слезах – накануне к ним пришел солдат пулемётной роты, которой командовал Виктор, и сказал, что он тяжело ранен снайпером и отправлен в госпиталь. Госпиталь, специализировавшийся по лечению черепно-мозговых ранений, размещался в здании исторического факультета Ленинградского университета в конце Менделеевской линии. На следующий день мы с мамой отправились в этот госпиталь. Мороз в тот день достигал сорока градусов, по одним данным, сорока двух, по другим. Как только мы перешли мост Свободы, я перестала чувствовать нос. Мама взглянула на меня и сказала: “Три варежкой нос без перерыва, а то отвалится”. Когда мы дошли до дворца Кшесинской, начался обстрел Кировского проспекта. Нам пришлось лечь на мостовую, прижавшись к высокому поребрику, ограждавшему бульвар напротив дворца. Лежать на снегу почти без движения было очень холодно, кроме того было очень неудобно тереть нос в лежачем положении. Как только обстрел переместился в другой район, мы быстрым шагом направились в сторону Биржевого моста. Когда перешли проспект Добролюбова, то увидели, что многоэтажное здание с левой стороны улицы горит. Оно горело уже не первый день, так как внутри всё было черным, а пламя вспыхивало то за одним, то за другим окном. Пожар этот никто не тушил, не было воды, не было бензина для пожарных машин, возможно, что не было и самих пожарных. Оно горело до тех пор, пока в нём было чему гореть. Мы ходили навещать дядю продолжительное время, не менее месяца, и когда проходили мимо этого здания {а это было общежитие для студентов университета}, то от него всё ползли и ползли струйки тяжелого дыма.
Когда мы дошли до госпиталя и нам показали палату, куда после очень сложной операции положили Виктора, то нашли его только благодаря табличке, повешенной на спинке кровати. Мы увидели его лежащим без сознания, с головой, из-за сильных отёков казавшейся огромной, голова была забинтована почти полностью – оставались только щёлка для глаз и щёлка для рта и кончика носа. Мама оставила меня в коридоре, а сама пошла к врачу, чтобы узнать его мнение о состоянии дяди. Медсёстры, увидев мою красную физиономию, взяли меня в обработку. Они долго возились с моим носом, пытаясь вернуть ему нормальный цвет. Затем вымазали нос мазью Вишневского, страшно вонючей, и велели при выходе на улицу при возвращении домой закрыть лицо шарфом до самых глаз. В завершение процедур они принесли мне полтарелки горячей каши из темной ржаной муки.
Когда я доедала кашу, вернулась мама и сказала, что пуля снайпера, подстрелившего Виктора, вошла под левым виском, прошла через голову в одном миллиметре от глазного нерва и в трех миллиметрах от головного мозга и вышла между правым виском и скулой с другой стороны. “Чудеса бывают редко, но такое ранение с возможностью оптимистичного исхода – чудо. Я надеюсь, что все функции мозга у вашего брата восстановятся” — сказал ей лечащий врач, и он оказался прав. Виктор после завершения лечения и выхода из госпиталя до самого окончания войны продолжал командовать пулемётной ротой и воевать в самых горячих точках ленинградского фронта и Прибалтики.
Но лежал дядя в госпитале более месяца. Когда его голову начали постепенно освобождать от бинтов, узнать его ещё долгое время было невозможно. Такого сильного отёка головы я никогда до ранения дяди не видела, даже представить себе такое не могла. Лицо превратилось в подушку голубоватого цвета, посреди которой чуть выступал кончик носа. Глаз вообще не было видно, а уши стали раза в четыре больше и мочки ушей доходили до плеч. Отёки уменьшались очень медленно и сохранялись даже после выписки его из госпиталя. Но они уже не могли повлиять на привычный образ жизни Виктора, любовные похождения которого были предметом огорчений бабушки, вынужденной утешать его многочисленных возлюбленных. Однако, в течение нескольких лет после войны сильное волнение могло вызвать у Виктора припадок эпилепсии, когда он в конвульсиях внезапно падал на землю, а окружающие его люди метались, не зная, как ему помочь.
На следующий день после похода в госпиталь я проснулась от того, что почувствовала сильную боль на лице, это болел мой несчастный нос. В зеркале вместо моего аккуратненького носа я увидела большой белый пузырь, как будто вчера я была не на морозе, а сунула нос в кружку с крутым кипятком. Мама, увидев мой нос, немедленно отправила меня в поликлинику. Там мне обработали пузырь и опять намазали нос мазью Вишневского. Видя мою расстроенную физиономию, врач и медсестра заверили меня, что нос у меня не отвалится, а только поболит еще немножко. Однако, больше месяца с него всё слезала и слезала кожа, я даже предположила, что нос изменит форму и станет курносым. К моей радости, единственным следствием сильного обморожения носа стало то, что много лет, а вернее всю мою жизнь он чувствовал холод намного сильнее и намного болезненнее, чем когда-то в детстве.
В двадцатых числах января через Ладогу по Дороге жизни на грузовиках вывезли многих оставшихся в живых, но сильно ослабевших, уже не способных не только работать, но и самостоятельно жить людей. Эта поездка таила в себе множество опасностей. Внезапные налёты немецких самолётов, на бреющем полёте прицельно расстреливающих караваны, провалы машин под лёд, разбитый взрывами снарядов, длительные остановки при крайне низких для наших мест температурах стали причиной гибели многих вывозимых на Большую землю людей. В эти дни папин друг Жорж, с которым мы собирались провести лето на Волхове, отправил в эвакуацию своё сильно ослабевшее семейство: жену Машу с тремя детьми. Через Ладогу они переправились благополучно, но не успела Маша этому обрадоваться, как у них произошла трагедия. На Большой земле перед посадкой на поездим всем выдали продуктовый набор. Ночью в поезде, когда Маша и младшие дети уснули, старший сын Лодик добрался до сумки с продуктами и один съел всё, выданное на четверых. Через час у него в животе начались сильные боли, их сняли с поезда, его срочно отправили в больницу, но спасти его не удалось. Он погиб от заворота кишок. Маша потом написала маме, что их случай не был единичным, но тех детей, которые съедали меньшее количество продуктов, обычно удавалось спасти.
В январе этого года по городскому радио была передача, посвященная блокадным детям. Меня поразил один из рассказанных эпизодов. В маленький провинциальный городок привезли детский сад с двумя сотнями детей, переживших блокадную зиму 1941-1942 годов. В течение года более 80 из них умерли и покоятся в братской могиле на кладбище этого городка. Это означает, что патология, вызванная у детей длительным голоданием, была так велика, что даже возврат в мирные условия и нормальное питание не позволили детским организмам восстановиться для того, чтобы жить дальше.
Немецкие истребители вылетали на Ладогу для охоты на всё движущееся по Дороге жизни. С одинаковым азартом лётчики на этих самолётах охотились и за караванами наших машин, перевозивших от Ленинграда – людей, обратно к городу – продукты, и за одиночными машинами. Я запомнила одну историю о немецкой «охоте», рассказанную жильцом нашего участка, молодым лихим шофером грузовой машины. Он жил в двухэтажном доме 8/10, замыкавшем наши дворы со стороны Финляндского проспекта, и был подключен к перевозкам через Ладогу, как только открылась Дорога жизни. Было ему лет тридцать, мне запомнились копна тёмных «цыганских» кудрей под лихо надвинутой кепкой и весёлые голубые глаза. В отличие от мужчин постарше весёлый нрав он сохранял при всех трудностях блокадной жизни.
В один из дней, вернувшись из рейса, он зашёл в контору за кипятком и сказал: “Представляете, сегодня немец угробил мою “аннушку”. Долгое время, пока не вылетал всё топливо, немецкий истребитель на бреющем полёте заходил на мою машину и всё стрелял, стрелял, стрелял из пулемёта. Я вертелся по льду как белка — то за машиной, то под машиной. А он разворачивает самолёт, опять летит прямо на меня, и так низко, что я вижу, как он смеётся. Противно стало – старается убить, на человека как на зверя охотится, и ещё смеётся при этом. Как я сумел уцелеть – сам не пойму. «Аннушка» вся в щепки, груз горит, хорошо ещё, что не спалил меня. Горючее у него кончилось – улетел. Наверное, решил, что прикончил меня, а то бы мог и вернуться. К вечеру колонна машин ехала к городу под защитой зениток, вот и прихватили меня с собой”.
Он рассказывал это нам, а по его лицу пробегала странная гримаса, оно подёргивалось от тика. Когда, согревшись у титана, он снял меховую шапку, мы увидели, что он стал абсолютно седым, ни одного тёмного волоса в его пышных кудрях не было. Увидев наши потрясённые лица, шофер подошел к зеркалу, висевшему у входных дверей, и долго себя разглядывал: “Да-а-а, жена вернётся и не узнает”. Полный мести, он хотел уйти на фронт, но его не отпустили с Дороги жизни. Когда закончилась война, жена вернулась из эвакуации и, разумеется, узнала его (уцелевшие мужчины были на вес золота), но он вскоре умер от инфаркта, не дожив и до сорока лет.
Мама теперь с трудом, хватаясь рукой за перила и подтягиваясь, поднималась на четвёртый этаж. Только воистину железная воля позволяла ей равномерно распределять продуктовые крохи на положенные для них дни. Добавки, которые мама могла позволить, были почти микроскопическими. Вспомнили о дуранде (жмыхе семян разнообразных масличных культур), полученной папой от Ленжилснаба после возвращения из Лужского района. Пробовали её очистить от острых тонких обломков шкурок семян подсолнечника, но их в общей чёрной массе оказалось очень много, кроме того, на многих шкурках оставались частички отжатой мякоти. Пришлось есть всё. Как тщательно мы ни разжёвывали приготовленное из дуранды варево, почти каждый раз у всех начинал болеть живот от уколов острыми обломками шкурок.
Начались серьёзные проблемы с тётей. Однажды, вернувшись домой от бабушки, мы застали её в горьких слезах. Оказалось, что пока нас не было дома, всю крупу, которую тётя получила по карточке на несколько дней, она сварила и съела за один раз. «Что же ты теперь будешь делать? Что ты будешь есть в оставшиеся дни? Ты же понимаешь, что у нас тоже ничего нет, нам практически нечем с тобой делиться, ведь мы сможем дать тебе только такие крохи, на которые ни нам, ни тебе не выжить?” — в полном отчаянии говорила ей мама. С трудом, добавляя каждому к положенной норме продуктов по половине кружки жидкого киселя из картофельной муки, мы прожили эту злополучную неделю. В конце недели тётя сообщила, что она отдала свою карточку в столовую, где теперь каждый день будет получать порцию каши. Мама хмыкнула, но ничего ей не сказала. Потом, уже когда мы легли спать, она тихонько прошептала мне: “Боюсь, как бы эта затея со столовой не кончилась для неё плохо”.
Через несколько дней, вернувшись после похода в магазин, мы в очередной раз застали горько рыдающую тётю. Она, закутанная в большой шерстяной платок, сидела в коридоре на полу, прислонившись спиной к стене и обхватив руками лицо. Когда мы помогли ей подняться и встать на ноги, мама отвела её руки от лица, и мы увидели большой синяк на левой скуле и под глазом.
На этот раз рассказанная ею история была такой. На одну из годовщин их свадьбы дядя подарил ей шкуру амурского тигра. Работа таксидермиста была великолепной – крупная голова с раскрытой пастью и блестящими желтыми глазами была как у живого зверя, шкура огромных размеров, подбитая зеленым сукном, лапы с длинными белыми когтями завершали облик могучего животного. Она лежала на оттоманке как чудо природы. И вот теперь это чудо навсегда исчезло. Как выяснилось из дальнейшего повествования, тётя привела домой двух мужчин, скупавших за хлеб антиквариат. Увидев шкуру тигра, они пообещали за неё половину буханки хлеба, и тётя согласилась. Быстро скатав шкуру, они запихали её в большой рюкзак, а тёте, сунув в руки маленький ломоть хлеба, сказали: “Тебе, тётка, и этого хватит’. Когда она попробовала задержать их, чтобы вернуть свою вещь обратно, они ударили её по лицу и с такой силой толкнули, что она упала и, как ни старалась, так и не смогла самостоятельно подняться. Они заржали (это выражение самой тёти)и ушли, выкрикивая на прощанье что-то издевательское. Мама, выслушав её, не выдержала: “Я не представляю, что нам с тобой делать? Получается, что тебя и на минуту оставить нельзя. Нам остаётся только радоваться, что они тебя не убили. Где ты их нашла?”. Тётя молчала, из глаз лились потоки слёз. “Ты их узнать сможешь? Раньше ты их видела?”. В ответ опять глухое молчание. Оставшееся до сна время мы потратили на утешения тёти, нам было очень жаль её (а мне ещё и тигра), но самое главное было в том, что она осталась жива и не была искалечена.
Следует признать, что длительное голодание оказало самое сильное воздействие на психику тёти. Она неожиданно стала исчезать из дома на целые дни. Мы не могли от неё добиться, где же она пропадает. В ответ на наши вопросы она либо молчала, либо говорила что-то настолько невразумительное, что в это трудно было поверить. Чтобы выяснить, что же с тётей происходит на самом деле, мама начала самостоятельное расследование. Уже к вечеру, благодаря расспросам множества жильцов нашего дома и знакомых с нею соседей, мама нашла тётю, сидящую в полудрёме в самом дальнем углу столовой. Столовские девушки сказали маме: «Эта бабуля сидит у нас каждый день до конца работы. У нас по стенкам кастрюль остаётся прилипшая каша, мы соскребаем её и раздаём таким вот бабушкам». «Вот такие у нас дела – вернувшись домой, сказала мне мама – и я думаю, что если нам не удастся добиться эвакуации тёти, в ближайшее время она погибнет. Попробую отправить письмо Лёше через тех, кто постоянно летает в Киров и обратно. Если писать о тёте всё как есть – цензура письмо не пропустит, и Лёша либо ничего не поймёт, либо ничего не узнает. Схожу завтра в Академию”. Маме удалось отправить письмо дяде с одним из сотрудников кафедры, и мы стали ждать дальнейшего развития событий.
Нельзя сказать, что в городе процветала шпиономания. На нашем участке остались, в основном, люди, давно и хорошо знакомые друг с другом. Большинство въехало в этот дом сразу по завершении его строительства. Многие работали на одном заводе или предприятии. И у всех кто-то воевал на фронте, кто-то голодал в осаждённом городе, и ни у кого не было причин симпатизировать немцам. Но и шпионы, и диверсанты, и предатели в блокадном городе были. Об этом в первую очередь говорило то, что ракеты, наводящие немецкие самолеты на корабли, вошедшие в Неву, или на военные заводы, взлетали почти в каждую бомбёжку. Однажды, стоя вместе с мамой в полной темноте на улице, мы увидели, как метрах в двадцати от нас с шипением взлетела ракета, осветив на мгновенье крепкую мужскую фигуру. Когда ракета погасла, мы услышали тяжелые шаги ракетчика, уходящего от нас на перекресток. Было облачно и так темно, что нельзя было отличить панель от проезжей части улицы. Мама сделала несколько шагов, пытаясь пойти следом, но я повисла на ней:“Куда ты идешь? Он пристрелит нас и всё. Не ходи, ну пожалуйста! Пожалуйста!”. Мама сдалась, и мы быстро пошли домой. После войны на эту тему был снят фильм «Зелёные цепочки», и действительно, многих ракетчиков выловили сами блокадники.
В один из зимних дней, ближе к ночи, маму, только что задремавшую после тяжелого дня, опять подняли громким звонком в двери. На этот раз её ждал патруль НКВД из трёх человек. Старший патрульный начал с того, что спросил маму, кто живет в угловых квартирах Посельцаровского дома, выходящих окнами на Клиническую аллею и проспект Карла Маркса (людей в каждом доме оставалось так мало, что все всех знали наперечет). На первом и втором этажах этого дома была детская поликлиника. Начиная с третьего этажа и выше, находились жилые квартиры. В квартире на четвертом этаже жила в одиночестве женщина, бежавшая из-под Луги после гибели всей своей семьи. “Вот к ней давайте и пройдем” — сказал патрульный. На мамин голос женщина, которая часто заходила в жилищную контору и хорошо знала маму, открыла двери и, мило улыбнувшись всем, спросила, в чём дело, что случилось и что их интересует. “Мы пришли с обыском, вот постановление” и старший патрульный протянул ей бумагу. У женщины был чрезвычайно удивлённый вид, она спокойно сказала: «Ищите, пожалуйста. Но хоть объясните мне, что вы у меня хотите найти? У меня и вещей-то никаких нет, в основном всё моё на мне, я ведь бежала, когда немцы уже вошли в город”.
Маму, как свидетеля, посадили на стул, стоявший у стены в сторонке. Военные начали тщательно перетряхивать все вещи, находившиеся в этой комнате. Двери других комнат, хозяева которых были на фронте или эвакуированы, оставались опечатанными. Обыск, очень дотошный, длился уже не менее двух часов — в комнате было много книг, которые патрульные перелистывали постранично — когда женщина попросила разрешения отлучиться в туалет. Ее отпустили, но через несколько минут, вероятно, услышав что-то подозрительное, старший сделал знак одному из патрульных, и они вдвоем ударом вышибли дверь уборной. Женщину вытащили в коридор и стали разжимать рот, в который она запихивала бумагу. Отчаянно сопротивляясь, она пыталась эту бумагу проглотить, но после того, как женщине зажали нос, бумагу удалось вытащить почти неповреждённой. Когда бумагу аккуратно разгладили, мама увидела на ней столбики цифр. «Вот и нужный нам шифр — сказал старший – хорошо, что воды в доме нет, а то успела бы всё спустить в канализацию». Самый высокий парень встал на унитаз и, пошарив рукой, вытащил из пустого бачка, прикреплённого почти под потолком, передатчик. Маме, показав передатчик, сказали: “Вот видите, и шифр мы нашли, и радиопередатчик. Сколько дней потратили, пока запеленговали его работу. Видно хорошая школа была, раз так быстро эта дрянь работала”. После обнаружения передатчика поведение женщины резко изменилось, теперь она, с ненавистью глядя на всех, кричала: «Ненавижу вас всех, всё равно все передохнете!». Когда ёе выводили из квартиры, она, проходя мимо мамы и третьего патрульного, постаралась каждого из них ударить ногой. Мама вернулась под утро в шоковом состоянии. «Ты только представь себе, какой она была актрисой!Как она у нас в конторе рыдала, когда рассказывала о расстреле немцами всех своих родных! А мы, простофили, все ей поверили. И нате вам, прекрасно подготовленная радистка, работающая на немцев. И никакого даже намёка на акцент. Неужели русская могла так продаться?»
Через несколько недель маме опять пришлось сопровождать патруль, на этот раз в квартиру первого этажа трехэтажного дома, составляющего единое целое с нашим домом. Большую комнату в этой квартире, где уже не осталось никого (кто уехал, кто умер), занимал пожилой мужчина, которого старые жильцы дома с легкой иронией почему-то называли господином N. Где он работал и чем занимался, никто не интересовался и точно не знал. По манере одеваться и по поведению был он более всего похож на преподавателя вуза, то есть на человека, занимающегося интеллектуальным трудом.
Взглянув на документы старшего патрульного, он с улыбкой (которая поразила маму больше всего) сказал: «Долго же вы до меня добирались, я вас ждал значительно раньше». У мамы создалось впечатление, что приход патруля он принял с облегчением. Начался долгий тщательный обыск, затруднённый обилием книг. “Не тратьте зря времени на обыск. Неужели вы думаете, что я стал бы держать компрометирующие меня документы или вещи в комнате, в которой живу? Всё, что вас интересует, я расскажу при встрече с вашим начальством” – сказал господин N. Затем он обратился к старшему патрульному: “У меня к вам большая просьба. В моей домашней библиотеке есть несколько древних книг, представляющих большой интерес для Публичной библиотеки. Разрешите их передать сотрудникам библиотеки через представителя группы самозащиты”. Он снял с полки три книги и положил их на стол перед старшим патрульным. Тот перелистал страницы всех книг и протянул их маме. Господин N написал на бумажке телефон и имя-отчество сотрудницы библиотеки, показал их патрульному и также отдал маме. Обыск продолжался до середины ночи, мама дремала на стуле, к утру наконец ей разрешили возвратиться домой. Мама взяла книги, на следующий день дозвонилась до библиотеки, назвала книги, а когда за ними пришли, сказала, как попросил её сам хозяин этих книг, что он умер от голода. Перед уходом мамы домой старший патрульный сказал ей, что этот человек был завербован немцами ещё в первую мировую войну, когда попал к ним в плен.
В конце января – начале февраля после комендантского часа к нашему дому подъехали грузовики с брезентовыми тентами на кузовах. В таких машинах обычно перевозили людей — и солдат на фронт, и эвакуируемых на Большую землю по льду Ладоги. Человек в военной форме, проводивший эту операцию, вызвал в контору нашего управдома Шевелёва (который на следующий день и рассказал маме обо всех ночных событиях) и стал по домовым книгам знакомиться со списком жильцов. Зачитывая вслух фамилии, он говорил своим подчинённым примерно следующее: «Квартира пять — два Ванхонена, квартира семнадцать – один Пуцитис, квартира 25 – одна Резекне» (фамилии были другие) и так по всем квартирам до конца. Далее в этих квартирах раздавался звонок. Открыв двери, люди видели военных, которые им говорили: «Срочная эвакуация, ровно пять минут на сборы и на выход к машинам».
В квартире напротив нас жила старая финка с четырёхлетней внучкой Ирьей, копией ангелочка с картин Эпохи возрождения. Бабушка уже не поднималась с постели, соседка приносила ей и воду, и продукты по карточкам. Группа самозащиты вела переговоры с детским домом, куда хотели определить девочку после смерти бабушки. Военные вошли в квартиру, положили бабушку на одеяло, и как на носилках снесли её вместе с Ирьей вниз, к машинам.
Всё делалось наспех. В результате финка, вышедшая замуж за Иванова и еле-еле изъяснявшаяся по-русски, осталась в городе, а русская женщина, бывшая замужем за финном, воевавшим на фронте, и носившая его фамилию, была в эту ночь выселена из блокадного города. Наш знакомый шофёр из соседнего дома, постоянно ездивший взад-вперед по Дороге жизни, говорил потом, что многие машины дошли до Кобоны на Большой земле с людьми, замёрзшими по дороге, так как никто толком не успевал собрать нужные вещи. Я не знаю никого из высланных жильцов нашего дома, кто вернулся бы обратно в наш город после войны.
Мама, спокойно проспавшая эту ночь и узнавшая обо всём от Шевелёва только рано утром, ужаснулась всему – и скоропалительности происходящего, и выбору намеченных к выселению лиц. Домой она вернулась страшно расстроенная. «Удивительно, как это с нашей-то фамилией и нас с тобой не тронули» — сказала она и стала ещё раз просматривать документы в балетном чемоданчике и носильные вещи в большой матерчатой сумке и рюкзаке. «Если придут за нами, ты берёшь рюкзак, я – сумку и документы. Прихватим с собой самое большое ватное одеяло, чтобы не замерзнуть по дороге. Выживем и на новом месте». Где-то за неделю до этих событий управдом намекнул маме по секрету, «между нами девочками», что сотрудники органов безопасности проявили большой интерес к личности папы и очень подробно о нём расспрашивали. Это сообщение также не внушило маме оптимизма в отношении нашей судьбы. Только много позже мы узнали, что эти расспросы были связаны с награждением папы орденом Красной звезды и назначением его на работу в шифровальном отделе штаба армии. Не исключено, что именно назначение его на весьма секретную работу и спасло нас от срочного выселения из города вместе со всеми другими «враждебными иностранцами».
В конце февраля, когда мама в очередной раз пришла на почту искать папины письма, куча сваленной посреди зала почтовой корреспонденции достигала высоты Эвереста. В свободное от дежурств время мама помогала в сортировке писем, иначе ждать вестей от папы или дяди приходилось неделями. В этот раз начальница почтового отделения предложила маме оформиться на работу почтальоном: “Фактически Вы делаете половину положенной для почтальона работы, но не получаете ни зарплаты, ни рабочей карточки, а Вам ни то, ни другое не помешает”. И мама согласилась. “Ну как, поработаем с тобой почтальонами?” – спросила она меня. Я согласилась тоже.
Для доставки писем маме определили большой участок по проспекту Карла Маркса, от Финляндского проспекта до Нейшлотского переулка. Ситуацию немного облегчало то, что по чётной стороне проспекта, начиная от Сахарного переулка и до Гренадерского моста, стояли только заводские здания. Писем было не так много, чтобы их было тяжело нести в сумке через плечо. Главная наша проблема заключалась в том, что в те времена письма разносились по квартирам, на каком бы этаже эта квартира ни была. На дверях каждой квартиры либо висел почтовый ящик, либо в самой двери была прорезана щель для писем и газет, красиво оформленная медными пластинками. И тут оказалось, что маме очень трудно подняться по лестнице выше второго этажа, у неё просто не хватало на это сил. Поэтому квартиры, расположенные на третьем, четвёртом и пятом этажах, стали моими. Но и здесь не обошлось без осложнений. Мои трудности по доставке писем в эти квартиры заключались в том, что я, при своём маленьком росте, не могла дотянуться до большинства почтовых ящиков или прорезей в дверях и опустить в них письма.. Выход из трудного положения был найден в том, что я стала ходить на работу с пустым балетным чемоданчиком. В зависимости от высоты почтового ящика, я ставила его на дно или на бок и затем влезала на него, чтобы опустить письмо.
Хуже всего было с доставкой заказной корреспонденции, получение которой удостоверялось подписью адресата. Чтобы получить подпись, мне надо было войти в квартиру с голодающими людьми, а это вызывало страх за меня уже у мамы. Двери многих квартир, особенно у сильно ослабевших от голода людей, не закрывались ими на замки, чтобы не вставать лишний раз при звонках в двери. Однажды я вошла в большую квартиру, все окна в комнатах которой были завешаны одеялами. В одной из комнат угол одеяла был отогнут и пропускал в неё свет, и когда я заглянула в эту комнату, мне показалось, что человек, лежащий на кровати и закутанный в одеяло с головой, зашевелился и попытался отодвинуть одеяло. Но когда я подошла к его кровати и что-то сказала, из-под одеяла вылезла крупная крыса и тяжело спрыгнула на пол, за ней выбралась вторая, и обе скрылись в коридоре. Я выскочила из комнаты вслед за крысами и ещё долго бродила по полутёмным помещениям с заказным письмом в руке, пока не поняла, что в них уже не было ни одного живого человека, а все лежащие на кроватях уже давно трупы. Поэтому в дальнейшем я, прокричав несколько раз у входных дверей: “Есть кто дома?”, только услышав ответ, входила в абсолютно темный коридор и шла по нему, касаясь одной рукой стенки и ориентируясь на слабый голос ещё живого человека, чтобы отдать ему письмо. Обычно в комнате царил полусвет-полумрак – на окне отодвигали только уголок светомаскировки, что позволяло не натыкаться на мебель. Чаще всего отозвавшийся на мой голос человек лежал, закутанный в одеяла, и иногда был уже так слаб, что даже расписаться в получении письма ему было тяжело. Но прежде, чем войти в квартиру, я кричала в пролёт лестницы: “Ма! Я сейчас иду в 55-ую, там кто-то есть” — и как только выходила, снова кричала маме:“Всё! Пошла на другой этаж, осталось ещё два письма”.
Двадцать пятый дом по проспекту Карла Маркса мне запомнился наиболее ярко ещё и потому, что жильцы этого дома выливали нечистоты не в форточки, как в большинстве домов, а главным образом в пролёты лестниц. При необычно низких температурах той зимы они моментально замерзали и покрывали неровным толстым слоем не только перила, свисая с них вниз желто-коричневыми сталактитами, но и значительную часть каменных ступенек. Пройти по такой лестнице без риска падения на скользких обледенелых ступенях можно было, только почти прижавшись к стене. Особенно трудно было спускаться вниз, так как ни у кого не хватило бы смелости дотронуться до таких перил. Разносить письма в домах, где нечистоты жильцы выливали через форточки на улицу, было гораздо легче.
В январе-феврале город приобрёл жутковатый вид. Водопровод и, следовательно, канализация нигде не работали. За водой ходили на Неву и составляющие с ней единую водную систему реки и каналы. Жильцы нашего дома брали воду из Большой Невки перед самым мостом Свободы. Прорубать лёд в проруби приходилось ежедневно. Вокруг проруби постепенно образовывался окаймляющий её высокий ледяной валик из воды, выплеснувшейся из вёдер и бидонов. Конечно, он предохранял людей, берущих воду, от падения в прорубь, но одновременно и затруднял зачерпывание воды. Когда валик превышал в высоту половину метра, чтобы достать воду, на него приходилось ложиться. Приносили домой самый минимум воды, обычно молочный бидончик на 2-3 литра, которого хватало на сутки для питья и приготовления нашей скудной еды. Учитывая то, что во всех домах при сильных морозах температура была близкой к нулю, а часто и просто отрицательной, ни о мытье, ни даже об утреннем умывании не могло быть и речи. Самое большее, на что были способны люди – это в гигиенических целях обтереть лицо сырой тряпкой, но большинство не делало и этого. Лица у многих блокадников неделями были покрыты сажей от пламени коптилок, особенно густо она лежала на верхней губе, под носом, похожая на усики франтоватого мужчины, и понять с первого взгляда, кто перед тобой – мужчина или женщина, иногда было трудно, ведь и одеты все были почти одинаково – ватник, ватные брюки и сверху повязанный крест-накрест большой шерстяной платок.
Начала процветать вшивость. Однажды мама, вернувшаяся домой после очередного дежурства, разожгла огонь в буржуйке, сняла с нее верхнюю крышку и на открытом огне стала обжигать подошвы своей обуви. Меня это очень удивило. В ответ на мои расспросы мама сказала, что утром в контору пришли жильцы одной из квартир и сказали, что их соседи – муж, жена и чей-то брат, уже второй день не выходят из запертой комнаты и на стук в двери не отзываются. Мама взяла с собой кого-то из группы самозащиты и дворника, и когда на их стук двери тоже никто не открыл, послала за участковым, чтобы взломать двери в его присутствии. Когда они вошли в комнату, то поняли, что соседи были правы, и лежащие там на кроватях люди, укутанные в несколько одеял, мертвы. Вскоре всех, вошедших в комнату, насторожил странный хруст, раздававшийся при их хождении по полу. В комнате было темно, они отодвинули угол одеяла, прибитого к оконным рамам, и при сером дневном свете увидели, что пол покрыт серо-желтоватым налетом, который и потрескивал, когда на него наступали. «Ты представляешь – простонала мама – там было такое великое множество вшей, что они покрывали всё пространство пола между двумя кроватями. Вероятно, когда эти люди умерли, вши пошли искать новые жертвы. Мне кажется, их было столько, что они запросто могли высосать всю кровь этих несчастных. Представляешь, от одного их вида нас всех начало тошнить, и мы просто бежали оттуда. Я теперь одного боюсь, как бы нам не заразиться этими вшами, ведь они могли заползти на мою обувь, вот я и решила ее обжечь». Но на нас с мамой почему-то вши не заводились. «Ехидная ты, Валентина, вот вши на тебе и дохнут» – сказал на это наш участковый. Но на мне они тоже, на мое счастье, не хотели жить, иначе мне пришлось бы расстаться с косами.
Не работавшая всю зиму канализация постепенно привела город в катастрофическое состояние, имелись все предпосылки и все условия для развития эпидемий кишечных заболеваний. Многие люди, бывшие не в состоянии выносить нечистоты за пределы квартиры, выливали их либо в форточку на улицу, либо в пролет лестницы, и они растекались до входа в подъезд или до подвального помещения. Дома выглядели по-разному, одни оставались практически чистыми, как наш дом, другие были все в потоках и подтёках нечистот. Нечистоты всех оттенков коричневого и желтого цветов застывали длинными сосульками на откосах окон, а навстречу им с панелей тянулись вверх такие же цветные ледяные столбики – классическая картина пещерных сталактитов и сталагмитов. Один такой страшно загрязнённый дом стоял на Литейном проспекте почти напротив Дома Красной армии. Потоки нечистот, застывшие перед ним ледяными волнами, сделали панель непроходимой для пешеходов, и все обходили этот дом по проезжей части улицы. Наш дом от такой напасти спасали два канализационных люка во дворе, крышки которых в наклонном положении фиксировались палками, позволяющими их приподнять, чтобы вылить нечистоты.
Все эти обстоятельства сделали очень понятной мамину радость, когда она узнала, что в городе появилась работающая баня. При первой же возможности мы отправились в неё мыться. Это была знаменитая до войны баня на улице Чайковского. Она имела отделения нескольких классов обслуживания и даже бассейны для взрослых и детей, в которых всегда резвилась ватага малышей. Но в этот трудный период работало {отапливалось и снабжалось горячей водой} только одно относительно небольшое отделение. Раздевалки для мужчин и женщин и входы в отделение были разными, но банный зал – был один единственным для всех. При входе висело объявление “Мужчины моются слева, женщины моются справа”. Зал был полутёмным, где-то высоко под потолком горела одна единственная лампочка. Противоположная сторона зала почти не просматривалась. Вода в горячем кране была, увы! не горячей, а тёплой, её не надо было разводить холодной водой. Как только мы начали мыться, нам стало холодно – мокрая кожа стала остро ощущать потоки холодного воздуха от окон и из соседних помещений. Мы мужественно тёрли себя мочалками и смывали накопившуюся за несколько месяцев грязь и, сполоснувшись максимально тёплой водой, ринулись в раздевалку, где было ещё прохладнее. Я думаю, что одеваясь, мы побили все рекорды по скорости натягивания на себя носильных вещей. Потом, после маминого рассказа о нашем походе в баню, ещё несколько человек мужественно решились на её посещение.
У всех людей своё отношение к милиции и милиционерам. Лично у меня остались самые тёплые воспоминания о наших участковых милиционерах блокадного времени. Николай Иванович, который был участковым на нашем участке ещё до войны, знал всех жильцов поимённо и в блокаду старался помогать всем нуждающимся в помощи, как только мог. При его непосредственном участии был раздобыт «титан» и в конторе домохозяйства постоянно кипел кипяток. Воду с Невы для титана приносил он сам и старался напоить горячей водой всех, кто заходил в контору домохозяйства — и уходящих на работу, и приходящих с неё. Во время обстрелов нашего участка он был первым помощником женщинам, помогал переносить на носилках раненых с улицы в укрытия и перевязывать их. Помогал живым после смерти их близких переносить умёрших в старую конюшню. Но в один “прекрасный” день он принес с Невы воду, зашатался и рухнул без сознания. К нему кинулись все, кто был в конторе. Вначале даже биения сердца не услышали, начали трясти, делали искусственное дыхание. Из голодного обморока Николая Ивановича вывели с большим трудом. Позвонили его начальству, за ним приехала машина. Потом нам сообщили, что он остался жив и его благополучно эвакуировали на Большую землю. А у нас через несколько дней появился новый участковый — сибиряк по фамилии Воробейчик. Он был очень молодым, почти мальчиком, черноволосым и синеглазым, с ярким румянцем, таким необычным для нашего города вообще и тем более в блокаду, и в новенькой милицейской форме. В первые дни он был явно поражён всей обстановкой фронтового города –необходимостью перехода наших улиц короткими перебежками с падением за укрытия при обстрелах, длящихся неделями; смертельной опасностью для женщин нашего дома походов за хлебом в магазин, находившийся на другой стороне улицы; почти ежедневным сбором трупов в доме и на улице с доставкой их на конюшню, обходами патрулей квартир в вечернее и ночное время. Все это разительно отличалось от мирной обстановки в его маленьком сибирском городке, кажется, Ачинске. Но он быстро освоился и начал активно участвовать в нашей жизни.
В самом начале своей службы у нас он с большой обидой встретил предложение женщин взять на себя заботу о титане и приносить для него воду. «В обязанности участкового это не входит» — заявил он и стал пунцовым. Но после того, как несколько дней подряд возвращающиеся с работы люди заходили в контору, подходили к титану и по уже сложившейся привычке пытались отогреть свои руки о его горячие стенки {а они оставались холодными}, титан вдруг ожил и начал так же дарить тепло и кипяток, как он это делал при Николае Ивановиче. Не более, чем через месяц после своего первого появления у нас, он уже целиком вошел в заботы своего участка и начал помогать всем, кому в этот момент была нужна его помощь. Но выдержал он у нас не более года, вскоре потерял свой яркий румянец, затем осунулся и, наконец, в одно из дежурств тоже рухнул в глубокий голодный обморок. Если Николай Иванович принял свой обморок с философским спокойствием {жив, и слава Богу}, то Воробейчик, придя в себя, стал перед женщинами оправдываться и извиняться, ему было стыдно, что он потерял сознание и упал. В результате все женщины как одна утешали «Воробышка», как могли, но необходимость его срочной эвакуации была очевидна всем. Расставание его с нами и с городом было очень трогательным — когда он прощался с нами и желал всем нам уцелеть, на глазах у него, как и у прощающихся с ним женщин, были слёзы.
Даже в самое тяжёлое время в здании на углу Невского и Владимирского проспектов работал размещавшийся там кинотеатр “Титан”. Несколько раз, навестив бабушку, на обратной дороге домой мы покупали билеты в кино. После журнала с последними новостями с полей сражений начиналась демонстрация художественных фильмов. Мне запомнились “Петер” и “Маленькая мама” с Франческой Гааль. Но просмотр фильмов удавался далеко не всегда. В тех случаях, когда объявлялась воздушная тревога, всем зрителям предлагалось выйти из зрительного зала и спуститься в бомбоубежище. На этом ваш просмотр фильма заканчивался, даже если вы его смотрели всего десять минут. Строго по расписанию начинался следующий сеанс, на него шли уже другие зрители, купившие билеты после вас. Всем отсидевшим воздушную тревогу в бомбоубежище предлагалось идти домой. Вторым досадным моментом в посещении кинотеатра было то, что туалеты не работали, а мускулатура у всех дистрофиков была так истощена и так ослабела, что долго терпеть отсутствие туалета почти никто не мог. Когда кончался сеанс и зажигались лампы над выходом из зала, под многими креслами в полутёмном зале были видны лужицы. Выход из этого кинотеатра был не на Невский проспект, а в небольшой дворик, из которого через подворотню зрители выходили на Владимирский проспект. Те, кто смог дотерпеть до конца фильма, при выходе во двор кидался направо, за высокую гряду сугробов, и присаживался там. Впереди у всех был ещё долгий путь домой пешком.
В начале марта были увеличены нормы хлеба, но людей продолжало шатать от постоянного недоедания. У мамы от голода начались головокружения, и работа почтальоном, требовавшая значительных физических усилий, давалась ей всё с большим трудом. Она перестала подниматься даже на второй этаж, все этажи выше первого стали моими. Нашим спасением было то, что писем было мало – из тех, кому писали, многие эвакуировались или умерли, из тех, кто писал, многих убили на фронте.
О тяжелом санитарном состоянии города было известно немецкому командованию, и оно его весьма устраивало. Беспокоило это и наше городское начальство. В конце марта все организации города получили приказ — до потепления и таяния снега очистить дома и улицы от нечистот, убрать с улиц снег, лежащий и на тротуарах, и на проезжей части улиц толстым плотным утоптанным слоем.
Самыми первыми из выполнивших приказ по очистке улиц от снега и льда стали сотрудники Большого дома. Они честно до самого асфальта выскребли большой участок Литейного проспекта на всю ширину своего знаменитого учреждения, включая как свою, так и его противоположную сторону. Мы с мамой в тот день пошли навещать бабушку, но не через Неву, где на льду на морском канале уже появились проталины и полыньи, а по «сухопутному» маршруту. Когда мы по Литейному проспекту дошли до расчищенного военными участка, он оказался почти на метр ниже заснеженного участка, и нам пришлось спрыгнуть вниз, на чистую панель. В конце путешествия по очищенному участку оказалось, что самостоятельно выбраться на еще не очищенный участок мы не в состоянии, впрочем, это не смогло сделать и большинство других пешеходов. Мне запомнилось, что когда я подошла, этот плотный слой снега был мне до подмышек. В результате сначала кому-то дружно помогли, подталкивая, выбраться наверх, потом те, кто выбрался, стал вытаскивать за руки пешеходов, оставшихся внизу. Кто-то не выдержал и пошел ругаться к начальству Большого дома. Возвращаясь от бабушки через несколько часов, мы увидели, что в снегу уже были сделаны широкие ступени для спуска и подъёма людей.
В военное время приказы выполняются быстро и без обсуждений, так как их невыполнение карается по законам военного времени, вплоть до расстрелов. Дней за десять город был полностью убран и от снега, и от нечистот. Трамвайные пути были расчищены, что давало возможность возобновления трамвайного движения. Надежды немецкого командования на возникновение весной эпидемий в осажденном городе не оправдались. На нашем участке не было ни одного случая желудочно-кишечного заболевания. Правда, один наш знакомый врач по этому поводу с грустью пошутил: «Отощали мы настолько, что даже бактерии не могут найти в нас что-нибудь мало-мальски съедобное».
Военно-морская медицинская академия сообщила тёте дату вылета самолета, который должен был вывезти из Ленинграда оставшихся в живых членов семей своих сотрудников. Тётя сразу же бросилась уговаривать маму, чтобы она отпустила меня вместе с ней в Киров. Мама сказала, что решение ехать или оставаться ребёнок должен принять сам. Она позвала меня, рассказала о тётином предложении и спросила, хочу ли я им воспользоваться, ведь оно даёт возможность жить без обстрелов и получать питание, несравнимое с голодным режимом Ленинграда. «Подумай хорошенько и реши, что тебе более по душе. Что ты выберешь, то и будет».
Я ушла в другую комнату, чтобы мне никто не мешал думать. В тётином предложении для меня главным привлекающим моментом, это я и тогда прекрасно понимала, была возможность сытно поесть. К обстрелам я уже привыкла и считала, что можно жить и при них, соблюдая определённые правила поведения жителя осаждённого города. Кроме того, сама эвакуация в моём представлении была похожа на трусливое бегство, а мне не хотелось стать трусом даже в собственных глазах.
Тётю я очень любила, но мне совершенно не нравилась её потрясающая беспомощность при решении любого вопроса. В её жизни все всегда решал дядя. Другое дело – моя мама. Во-первых, рядом с ней мне ничего не страшно. Во-вторых, она всегда {конечно, правильнее сказать, почти всегда} говорит: «Этот вопрос ты должна решить сама, а не перекладывать его решение на чужие плечи, приучайся к ответственности за свои поступки». Мне это нравится: сделаю удачно – я герой, ну а если нет – ни с кем, кроме себя, и разбираться не надо. В-третьих, мама никогда не ругает меня за мои шалости. Она обычно посмотрит на меня и скажет: “Одного не могу понять, зачем тебе это было надо?”. Подумаешь и приходишь к выводу, что, действительно, и не надо было этого делать, значит, больше и не делаешь. Когда я кончила думать о том, лететь мне или не лететь с тётей, я уже твёрдо знала, что останусь с мамой. Когда я сказала это тёте, она немножко на меня обиделась, но потом поцеловала и ушла собираться в дорогу. Мама поехала её проводить.
Дней через десять мы получили от неё письмо, залитое потоком горьких слез. Долетела она до Большой земли хорошо. От аэропорта до Кирова доехала поездом. Дядя пришёл встречать и не узнал её, так сильно она изменилась. «Представляешь, Валя — писала она маме — Лёша два раза прошел мимо, смотрел и не узнавал меня. И только когда мне стало совсем плохо, он пригляделся ко мне и успел подхватить меня, чтобы я не упала”. Действительно, в закутанной в два платка женщине, чьи тонкие черты лица были искажены сильнейшими отёками, трудно было узнать тётю. Она всегда отличалась прекрасным цветом лица и одевалась в строгом петербургском стиле. Как часто говорила моя маленькая бабушка, тоже придерживающаяся петербургского стиля: «Можете меня расстрелять, но платок наголову я ни за что не надену!». Так никогда до самой смерти и не надела.
А наша с мамой блокадная жизнь шла своим чередом. Наш «дополнительный паёк» — столярный клей, дуранда, содержимое дачного сундучка были доедены нами еще в феврале. Всё сильнее стала сдавать мама, и если раньше, до войны, она одним мигом взлетала на наш четвёртый этаж, то теперь при возвращении домой останавливалась, пытаясь отдышаться, после каждого подъёма всего на один пролёт лестницы. Я хорошо запомнила дату — семнадцатое марта – когда произошли важные события, вновь поддержавшие нас на плаву.
В этот день, солнечный, но ещё морозный, мама принесла снизу вязанку дров, чтобы протопить печку. Но, сбросив дрова на пол, она вдруг зашаталась, потеряла равновесие и начала падать. Падая, она ухватилась за спинку стула, стул упал, а она со всей силы ударилась лбом о выпуклый металлический шов, соединяющий две вертикальные конструкции круглой печки, и упала. Я помогла ей подняться и сесть на стул. Она села и разрыдалась так, как никогда до этого ещё не плакала. Конечно, ей было и больно, и обидно. Сквозь слёзы она сказала: «Как только я умру, сразу же иди в детский дом, не оставайся здесь одна». «Сейчас, побежала я туда! Ты же прекрасно понимаешь, что никуда я не пойду. Подумаешь, голова закружилась, посиди спокойно и скоро всё пройдет». Немного успокоившись, мама отняла руки от лица, и я увидела, что её лицо стремительно отекает. Очень быстро синий отёк со лба начал наплывать на переносицу и верхние веки, которые почти прикрыли глаза. Обширная гематома стремительно разливалась по всему лбу и двумя ручейками спускалась на нижние веки и вдоль носа на обе щеки. Вместо маминого лица на меня глядела страшная синяя маска. Я подумала: «Хорошо, что в комнате нет зеркала, а то мама увидит себя и снова зарыдает».
Убедив маму закрыть глаза и какое-то время посидеть спокойно, я переложила дрова в печку, настрогала лучинок и подожгла бумагу. Огонь накинулся на лучинки, в комнате сразу стало теплее и веселее. Одеяла на окне были чуть сдвинуты в сторону и в оставшееся целым стекло весело светило солнце. В это время раздался звонок в квартиру. Я открыла дверь и увидела моряка, лицо которого почему-то показалось мне очень знакомым. Он спросил меня: “Быстров Алексей Петрович здесь живёт? Я хотел бы его увидеть”. Я ответила, что дядя эвакуировался вместе со своей Академией в Киров, но будет лучше, если он обо всём поговорит с мамой. На всякий случай я ещё в коридоре предупредила его, что от голода у мамы сегодня сильно закружилась голова, она упала и очень плохо выглядит. Когда он прошёл в комнату, при дневном свете я увидела, что моряк очень похож на дядю. Он представился – Хромов Константин Иванович, двоюродный брат дяди: «Моя мама – родная сестра отца Алексея Петровича» Интересно, что он был похож на дядю больше, чем дядины родные братья. Целью его прихода, как сказал Константин Иванович, было узнать, не может ли он чем-нибудь помочь своему брату. Узнав от мамы, что мы родственники его жены, он рассказал нам и о себе. После перегона кораблей Балтийского флота в Кронштадт и в устье Невы он участвовал в боях в составе морской пехоты. Получив серьёзное ранение в ногу в боях на границе с Эстонией, он вернулся на свой корабль, который был пришвартован на Большой Невке, напротив Русского дизеля. Его жена была эвакуирована в самом начале войны и ждала ребенка. Но он до сих пор не получил от неё писем и не знает, где она сейчас находится и кто у них родился, мальчик или девочка.
Расспросив всё, что только можно, о дяде и взяв его новый почтовый адрес, Константин Иванович сказал маме: “Вы, конечно, понимаете, что женщину на корабль я пригласить не могу, но позвать пообедать у нас ребёнка никому из нас не запрещено”. Потом обернулся ко мне и сказал: “Приходи ко мне завтра на корабль. Выйдешь по Евпаторийскому переулку на Пироговскую набережную, увидишь стоящие один за другим два больших корабля, миноносца, а между ними и набережной – маленький корабль, морской охотник. На самой набережной перед сходнями стоит телефонная будка, в ней вахтенный матрос. Будка хоть немного, но спасает его от холода, там хоть ветра нет, а стеклянные стенки позволяют видеть всё кругом. Подойдёшь к нему и попросишь вызвать капитан-лейтенанта Хромова, БЧ5. Жду тебя к часу дня”.
На следующий день в половине первого я отправилась на корабль, нашла часового в будке и попросила его вызвать Константина Ивановича так, как он велел это сделать. Часовой вышел из будки и крикнул: “Капитан-лейтенанта Хромова, БЧ5. На пост”. Матрос на палубе морского охотника прокричал это же в сторону миноносца. Затем уже на миноносце то же самое прокричали еще раз или два. На палубу миноносца поднялся Константин Иванович и крикнул часовому: “Пропустите девочку ко мне”. Я пробежала по сходням с набережной на морской охотник, потом по палубе охотника, потом по сходням от охотника на миноносец. Константин Иванович привёл меня в свою каюту, где я вымыла руки, и мы отправились в кают-компанию обедать. За большим обеденным столом сидело 6 или 7 моряков, которые весело со мной поздоровались. Обед, о чудо, состоял из трех блюд. Я съела суп, съела второе — макароны по-флотски, которые на всю жизнь остались одним из моих самых любимых блюд. Передо мной поставили стакан компота. Это вообще было блаженство. Поглядев, как я ем, а я очень старалась не торопиться, все моряки, сидевшие за столом, отодвинули стаканы с компотом в мою сторону. Но когда я начала пить второй или третий стакан компота, в кают-компанию вошел ещё один моряк с чёрной-пречёрной бородой. Увидев меня и батарею стаканов, полных компота, передо мной, он подскочил к столу и быстро сдвинул все стаканы на другую сторону стола. Потом, глядя на сидевших за столом моряков, форменным образом зашипел на них: «Вот уж не думал, что вы настолько безграмотны! Вы же чуть ребёнка не угробили». Моряки оправдывались, что хотели как можно лучше накормить девочку. А я глядела на отставленные им в сторону стаканы с компотом и думала: «Жадина какая, и сам на Бармалея похож» У меня же после съеденного обеда не возникло ни малейшего чувства сытости, мне казалось, что я могу съесть еще десять таких обедов. А к Бармалею, которого все называли Иваном Ивановичем и который был корабельным врачом, я ещё долгое время никаких тёплых чувств не испытывала. Ужасно жаль было отнятого у меня компота.
После обеда Константин Иванович спросил меня: «Не хочешь посмотреть корабль?», «Конечно, хочу», «Тогда пошли». И он повёл меня по кораблю, объясняя по дороге: «Эта лесенка, по которой мы спускаемся вниз, называется трапом. Ты спускаешься, как все женщины, задом наперёд и держась за перила, а настоящие моряки всегда спускаются лицом вперёд и за перила не хватаются. Смотри, как надо”. И он поднялся по трапу наверх и быстро сбежал вниз на одних каблуках. «БЧ – это боевая часть, а БЧ5 – это машинное отделение, мое царство-государство. Оно должно быть в чистоте и постоянной готовности к отплытию». Он провёл меня в машинное отделение, я посмотрела вокруг и увидела такую чистоту, такой порядок во всём, какой редко встретишь дома даже у очень хорошей хозяйки. Особенно меня потряс блеск многочисленных медных трубок и трубочек, они были не просто хорошо начищены, а начищены так, что более и менее блестящие участки делали эти трубочки полосатыми. С одной стороны посмотришь на трубочку – эта полоска ярче блестит, а сделаешь шаг вперёд – сильнее блестит ее соседка. Просто здорово. В это время Константин Иванович взял металлическую палку с крюком на конце и за кольцо поднял металлическую секцию пола. Под машинным отделением оказалось пустое пространство, на дне которого слабо плескалась вода. «Это трюм. Конечно, он тоже должен быть сухим, но в наше последнее плаванье не обошлось без повреждений, где-то вода понемногу и просачивается». А я вспомнила морские рассказы Станюковича и подумала, что даже если трюм будет сухим, плыть на корабле в таком тесном замкнутом пространстве всё равно будет страшно. А сколько литературных героев убегало от полиции, возвращалось на родину или начинало путешествовать именно в трюме. Потом Константин Иванович показал мне минное отделение, из которого в море в сторону вражеских кораблей сбрасываются огромные мины. «Экскурсия окончена, теперь марш домой, я позвоню твоей маме в контору, что ты вышла, так что нигде не задерживайся. Через неделю приходи опять, только пусть перед этим твоя мама мне обязательно позвонит».
Корабль мне очень понравился, дружный коллектив кают-компании сразу вызывал чувство симпатии к морякам. Многие мальчишки чуть-чуть постарше меня приходили на корабли, стоявшие на Неве, сперва подкормиться, а затем оставались на них. Их обучали какой-нибудь морской профессии, и они становились полноправными членами боевого экипажа, как Николай, один из друзей моей юности, с четырнадцати лет начавший службу радистом на морском охотнике.
Регулярные обстрелы города продолжались. Обычно немцы несколько дней подряд «долбили» один район, потом начинали обстреливать следующий, потом переходили на новый, и так неделя за неделей. Когда начинали обстреливать наш участок, то даже принести хлеб из магазина, находившегося на другой стороне Финляндского проспекта, было трудной задачей. Наш участок, из-за стоявших у моста подлодок упорно обстреливался немцами, осколки от разрывов шрапнели нередко залетали в окна наших квартир. Поэтому меня и Гарика наши мамы при длительных обстрелах продолжали выпроваживать в выморочную квартиру на втором этаже, окна которой выходили во двор. У Татьяны Ефимовны было полное собрание сочинений Дюма еще дореволюционного издания, которое перенесли в комнату, куда нас определяли на время обстрелов. Электрического света еще не было, нам светила только коптилка. Поэтому мы с Гариком решили, что будем читать Дюма вслух по очереди, чтобы не очень уставали глаза. Самым ужасным для нас было, когда по тексту кто-нибудь из нас доходил до описания застолья с перечислением блюд, подаваемых гостям. Чтец начинал ронять слюни, бросал книгу на стол и говорил: «Как хочешь, но я больше не могу». Уже после войны, вспоминая эти эпизоды, я взяла современное издание “Графа Монтекристо», потом просмотрела другие романы Дюма, пытаясь найти те описания кушаний, на которых мы прерывали чтение. И не нашла. Так и осталось для меня загадкой:то ли застолья, описанные в ранних дореволюционных изданиях, были купированы в поздних, издававшихся в советское время, то ли нам в то время попала в руки поваренная книга самого Дюма, он ведь был большим гурманом.
Мы с мамой продолжали разносить письма по участку. Появились и подписчики газет, последние, хоть их было не очень много, сильно утяжелили мамину почтальонскую сумку. Начались и неприятности. Сколько раз мы ни опускали газету в один из почтовых ящиков, прикреплённых к двери, открывающейся прямо на улицу, вечером раздавался звонок начальнику почтового отделения с жалобой и требованием принять меры к почтальону, так как газета в ящике отсутствовала. Маму всё это начало сильно нервировать и выводить из равновесия. Решить вопрос своими силами было невозможно — металлический почтовый ящик висел на наружной двери квартиры, имевшей отдельный вход прямо из палисадника. Спасти газету можно было, только поставив у злополучного ящика сторожа или милиционера. А это было не в наших силах.
Каждую неделю, в те дни, когда не было обстрелов нашего участка, я продолжала ходить обедать на миноносец. В один из дней, подойдя по набережной к знакомым сходням, я увидела разбитую искорёженную телефонную будку, залитую кровью. Погиб вахтенный матрос от осколков снаряда, разорвавшегося накануне рядом с будкой. Будка спасала его только от ветра.
В середине апреля пошли первые трамваи всего пяти маршрутов. На трамваи немцы тоже начали охотиться. Так как маршрутов было мало, вагоны всегда были битком набиты людьми, едущими на работу или с работы. Такое же людское столпотворение было на каждой остановке, так как далеко не всегда удавалось сесть в первый подошедший к остановке трамвай. В результате немцы довольно точно стали бить по трамвайным остановкам. Поэтому, чтобы избежать многочисленных жертв, остановки стали периодически перемещать с одного места на другое.
Виктор, штурмовавший при снятии блокады Воронью гору (высокий холм между Красным селом и Гатчиной), на которой стояли батареи осадных орудий, бивших по городу, рассказывал нам, что рядом с каждым орудием были помещены координаты для его наводки на основные стратегические объекты Ленинграда.
Как только наступили первые тёплые дни, и из земли полезли первые зелёные проростки разных травянистых растений, огородные грядки начали копать все и везде. Огороды появились в Летнем саду и на Марсовом поле, в Александровском саду и на Исаакиевской площади, в каждом сквере, на каждом свободном от построек земельном участке или клочке земли в городе. Основная трудность заключалась в отсутствии у большинства городских жителей овощных семян, лопат и навыков работы на огороде. Поэтому многие начали с того, что просто стали собирать и есть различные травянистые растения, в первую очередь в пищу пошли листья одуванчика, лебеды и крапивы, съедобными оказались белые корневища и подземные части пырея, листья липы.
В продовольственных магазинах тоже начали продавать разную «дикую» зелень. На прилавках высокими горками лежали скошенные где-то растения лебеды и крапивы, изредка в продаже появлялся щавель. Висели объявления, что при готовке блюд из листьев одуванчика, их вначале надо подержать в холодной воде и смыть белый (каучуковый) сок и только потом использовать в супах и салатах. В аптеках и детской поликлинике появилась зеленая витаминная настойка, приготовленная из молодой хвои сосны и ели.
В один из майских дней ранний утренний звонок в двери быстро поднял нас с мамой с постели. Пришел Петрович и сразу, от порога, сказал, что появился у нас в связи с очень срочным и крайне важным делом. Петрович был выдающейся личностью. Работая мастером на Русском Дизеле, производящем двигатели для подводных лодок, он знал дизельные моторы как никто другой. Инженеры этого завода, работающие с ним и живущие в одном с нами доме, рассказывали потом папе про него такие истории. При неисправности дизеля на боевой подводной лодке обычно вызывали Петровича. Он внимательно, как врач, слушал, как работает мотор, и по ведомым только ему изменениям звука говорил, какая именно возникла неисправность и что надо делать, чтобы ее устранить. «А мы стоим рядом, слушаем то же, что и он, и ничего такого, что нам говорило бы о неисправности мотора, не слышим». Вследствие своей такой уникальной способности он всю войну летал от одного моря к другому, определяя и устраняя неисправности в работе дизелей подводных лодок. В эту ночь он также должен был улететь из города на неопределенное время, в связи с чем ему потребовалась наша помощь.
Дело, в котором мы могли ему помочь, заключалось в следующем. По распоряжению директора завода весной 1942 года капустная рассада выращивалась в заводских парниках не только для находящегося почти на линии фронта подсобного хозяйства, снабжающего овощами заводскую столовую, но и для тех работников завода, которые захотят и смогут заняться собственным огородом. Участок земли, который достался огородникам, работающим на Русском Дизеле, размещался в треугольнике, образованном высокими насыпями железнодорожных путей на Токсово и на Мельничный Ручей, расходящихся в разные стороны перед Первым Муринским проспектом. Когда мы с Петровичем приехали туда, то увидели, что весь треугольник земли уже вспахан, разделён на равные участки с четырьмя грядками, уже засаженными рассадой капусты. Участок Петровича оказался недалеко от водоёма – длинного прудика у насыпи пути на Токсово, из которого все брали воду для полива капусты. «Значит, так – сказал Петрович — мне всё лето придётся летать, а вам надо будет поливать капусту и спасать её от вредителей. Урожай поделим пополам». «Но я никогда не занималась огородом, я ничего не знаю и ничего не умею” – растерянно говорила мама. Я молчала, так как тоже не представляла, что же нам надо делать на огороде. Петрович с досадой сказал: «Да знаю я, что ты городская. Будешь спрашивать у соседей по огороду – всё и расскажут, и покажут, народ у нас на заводе умелый. Думай сейчас только об одном, надо сделать так, чтобы урожай капусты был хорошим и чтобы его хоть до половины зимы нам хватило”.
Вот так мы с мамой впервые в жизни занялись выращиванием овощей. Вскоре мы получили письмо от папы, которому мама написала о Петровиче и огороде. В письме было два пакетика с маленькими круглыми семенами и третий пакетик с десятью белыми огуречными семенами. Папа написал, что местная деревенская жительница, узнав от него, что в Ленинграде горожане стали копать огороды, принесла ему для нас семена редиса. Редис, присланный из Карелии, назывался “ледяная сосулька” и “розовая сосулька”, он и по форме был похож на сосульки, особенно белый. Кто-то из соседей подарил нам два тыквенных семечка, несколько огуречных семечек и две проросшие корнями и побегами тощие-претощие картофелины.
Мы посадили семена редиски в бока грядок и вскоре получили свой первый урожай. Семена тыквы и огурцов прорастили дома и воткнули между рассадой капусты, а две картофелины разделили на отдельные побеги и продолжили для них одну грядку в сторону пруда.
На огороде надо было появляться не реже одного раза в неделю – было мало дождей, и земля быстро сохла. Нам крупно повезло, что одна наша грядка боком выходила на пруд, и нам не надо было таскать воду на большое расстояние. Впервые познакомилась я и с вредителями капусты — гусеницами капустной и репной белянок и крупными слизнями, прекрасно чувствующими себя рядом с водоёмом. Перед поездкой на огород мы выгребали из печки или из буржуйки древесную золу и подкармливали ею капусту, а также по чьему-то совету высыпали золу вдоль грядок со стороны пруда, чтобы отпугнуть слизней от нашей капусты. Петрович между командировками появлялся в городе на день или два, спрашивал у нас, как обстоят наши дела, и улетал снова. Ему было не до огорода, не успевал он отремонтировать один дизельный мотор, как надо было чинить следующий.
За весь первый летний сезон мы с мамой только однажды попали на огороде под обстрел. В этот раз длительно и упорно обстреливали два железнодорожных моста, перекинутых через Муринский проспект и находящихся в непосредственной близости от нас. Несколько часов мы лежали, не поднимая голов, между наших грядок. День, на наше счастье, был солнечный, земля уже сухая и тёплая. Но едва мы приподнимались, думая, что обстрел закончился, новый залп укладывал нас обратно. Уйти домой нам удалось только поздно вечером, но это было время белых ночей, и вечер был почти таким же светлым, как день. Но не всем везло как нам, периодически на огороде кто-то погибал во время очередного обстрела.
Мама продолжала разносить письма по своему участку. В доме 25 вычистили все лестницы, почти не осталось квартир с незапертыми дверями, их жильцы либо умерли, либо уехали, либо поправились. Особенно мне понравилось ходить с мамой в дома, расположенные по нечётной стороне проспекта между Выборгской улицей и Нейшлотским переулком. Там за большим домом, стоявшим вдоль проспекта, прятались два коттеджа, выстроенные в своё время для шведских инженеров, занятых на предприятиях Нобеля. Рядом с этими коттеджами был небольшой садик с фруктовыми деревьями и ягодными кустами. В садике я нашла два кустика черной смородины. Пока мама разносила заказные письма, я срывала с каждого куста по несколько молодых светло-зеленых листиков, которые потом дома подсушивала и заваривала чай. Он был очень вкусным, и я думала, что вот кончится война, и мы каждый день будем пить чай из подсушенных и заваренных листьев черной смородины.
И мама, и папа писали друг другу письма почти ежедневно. Не была оставлена вниманием родственников и я, так как и папа, и дядя с тётей писали мне отдельные письма, правда, не так часто, как маме. Все папины письма начинались с виньетки, выполненной цветными карандашами. Это были карельские пейзажи. А в самом письме обязательно был маленький забавный рассказ либо о животных, чаще о собаках, либо о людях. Папа писал о девушке, которая во время обстрела городка от страха залезла в угол комнаты за круглую печь. Но когда обстрел закончился, все её попытки выбраться из-за печки кончались неудачей. Помогали соседи, помогали военные. Но вытащить её так и не смогли. Закончилась эта история тем, что пришлось разобрать печь. «А ты как — писал папа — не пробовала прятаться за круглой печкой?» Дядины письма были маленькими научными сообщениями. Чаще всего он писал о повадках разных пауков. Но перед рассказом всегда было изображение паука, его русское и латинское видовое название, а сам текст также сопровождался прекрасными рисунками.
Я тоже писала в ответ письма, часто это были стихи моего сочинения. Рисунки мама мне посылать не советовала, они были мрачными (с чего бы им быть светлыми?), и цензура их не пропустила бы. Цензура проверяла все письма, на которых потом ставила штамп “Проверено цензурой”. Такие фразы как — «Семья Х вымерла полностью» — либо вымарывались цензурой, либо письмо уничтожалось. Поэтому все перешли на Эзопов язык. Например, фраза – «Семья Х уехала жить к Ивану Петровичу» — означала, что все умерли, и адресат это понимал, так как был когда-то на похоронах Ивана Петровича. «Мартынов на днях встретился с Володькой А.» расшифровывалась как – «На днях погиб Мартынов», а «Лебедев поехал к Стиве» – «Лебедева арестовали», так как Стива, крупный инженер-доменщик, был в 1938 году посажен на десять лет за как будто бы рассказанный им антисоветский анекдот (об анекдоте говорилось в доносе). Такчто цензура цензурой, но все быстро приспособились сообщать все неприятные новости так, что они проходили мимо внимания цензоров и были понятны только адресату.
Один раз в неделю я продолжала ходить обедать на корабль. Самым любимым, кроме обеда, у меня стало послеобеденное время в кают-компании, когда моряки вспоминали свои приключения в мирное время или рассказывали друг другу о перипетиях своей военной жизни. Константин Иванович перед войной работал в Англии по приёму построенных там для нашей страны кораблей и вернулся с большим запасом впечатлений и английских анекдотов. И когда кто-то из молодых моряков сказал, что завидует его поездкам и жизни за границей, он рассказал о своей жизни в Англии такую историю. Обычно он обедал в припортовой «забегаловке», и каждый раз за столик к нему кто-нибудь подсаживался. Этот человек, выяснив, что Константин Иванович русский, обычно переводил разговор на политические темы и затем начинал ругать всё советское. Если в ответ Константин Иванович начинал горячо защищать свою страну – его вызывали в английское учреждение и грозили выслать из Англии за коммунистическую пропаганду. Если Константин Иванович молча ел и делал вид, что не слышит соседа за столом, его вызывали в советское посольство, и тоже грозили выслать из Англии за молчание в ответ на поругание своей Родины. Закончил он так: «Нервов мне испортили изрядно и те, и другие. Поверьте, завидовать здесь было нечему, работать в Англии действительно было интересно, но очень и очень тяжело”.
В продолжение всего теплого времени у Кузнечного рынка на Владимирском проспекте, у больших продовольственных магазинов на Литейном проспекте по краю тротуаров на бумагах было разложено множество красивых старинных вещей. Фарфоровые статуэтки, вазочки, посуда разных стран, ожерелья из полудрагоценных камней, старинное кружево – все это предлагалось сидевшими рядом со своими сокровищами женщинами разных возрастов за кусок хлеба, и только за кусок хлеба. Среди этих вещей было много антиквариата. И мы, возвращаясь домой от бабушки, иногда медленно проходили вдоль этих рядов, любуясь фарфором голландской королевской фабрики, севрскими, гарднеровскими и кузнецовскими изделиями.
Музина мама, чтобы получить рабочую карточку, устроилась работать на Сампсониевский мост рабочим. Она была на мосту единственным, при этом самым старшим работником, хотя младшего рабочего на мосту не было вообще. Перед войной и в военные годы мост был ещё деревянным, он стоял на толстых деревянных сваях с горизонтальными площадками над водой, образованными квадратными в поперечном сечении толстыми брёвнами. Вниз на эти площадки можно было спуститься по ступеням деревянных стремянок, верхушка которых прикреплялась к перилам моста. Нас с Музой осенила очередная гениальная идея – спуститься на устои моста и попробовать с них наловить рыбу, которой в те годы в Неве было много. Первое, что мы сделали, пошли в сквер и выкопали несколько дождевых червей. Потом в папиных рыболовных принадлежностях я нашла два рыболовных крючка, к которым привязала тонкую прочную бечевку. Сейчас можно только удивляться тому, что Полина Ивановна – мама, ежеминутно дрожавшая над своим единственным ребенком, совершенно спокойно разрешила нам перелезть через перила, спуститься по лестнице и сойти на устои, имевшие ширину не более полуметра. Во время наводнений и ледохода брёвна устоев часто оказывались под водой, поэтому их поверхность на разрыхлённых подгнивающих участках была покрыта зелёными водорослями, что делало их очень скользкими. А мы, мечтая наловить рыбу, спускались на брёвна, расположенные над самой стремниной реки. Самое первое, что мы сделали, спустившись вниз, это легли на брёвна и стали рассматривать подводную жизнь. Сваи из вертикальных брёвен под водой были покрыты густо разросшимися водорослями, между которыми и над которыми в воде крутилась многочисленная мелкая живность, похожая на стаи мошкары. А носами к водорослям, растущим на этих бревнах, толпились окуни. Их было много, они были ярко окрашены – зеленое туловище с черными полосами и яркие оранжево-красные плавники, трепещущие как крылышки птиц. Самые маленькие были длиной в ладонь, самые крупные – в два раза больше. Они спокойно, как куры у кормушки, склёвывали разную мелкую живность с поверхности водорослей и не обращали никакого внимания на наших извивающихся на крючках червяков. Сколько мы ни водили червяков на верёвочках рядом с окунями, подводили червяков к самому их носу, иногда даже ударяли червяками об их спинки, в результате получали один и тот же результат — ноль внимания и фунт презрения с их стороны. Пролежав на брёвнах часа полтора, мы, признав свое поражение, выбрались наверх. Через несколько дней повторили, с тем же успехом, очередную попытку ловли рыбы. Пришлось признать, что это искусство нам не по плечу. Вспоминая теперь наши попытки выловить рыбу, разгуливая по скользким устоям деревянного моста, я понимаю, что если бы кто-то из нас поскользнулся и упал в мощную стремнину невской воды, он бы неминуемо погиб. Но нам почему-то повезло, и это удивительно.
Главная мысль, которая всё это время продолжала сидеть в моей голове, была – что бы такое ещё можно было бы съесть и где это можно добыть. Даже самые интересные книги не могли притупить постоянное, острое чувство голода. Во время одного из таких размышлений я вспомнила, что в сквере перед нашим домом растёт несколько кустов альпийской красной смородины. На этих кустах созревают одиночные крупные красные ягоды, в отличие от садовой красной смородины, образующей ягоды в кистях. Эти ягоды вдруг так чётко возникли в моем воображении, что у меня моментально слюнки потекли. И я, ничего не сказав маме, говорившей с кем-то по телефону, быстро выскочила на улицу, обежала дом кругом, подтянулась за металлические пики, перелезла через ограду сквера и благополучно спрыгнула вниз. Этих кустов в сквере было четыре. Два из них были посажены близко к берегу, а значит и к подводным лодкам, туда идти было опасно. Другие два куста росли, не доходя до середины сквера, и я пошла к ним. Мои ожидания оправдались полностью – на кустах висели спелые крупные ягоды, которые я начала собирать: одна ягода в рот, другая в карман, для мамы.
Кроме меня в сквере было ещё два человека. У входа в крытую траншею, на близкой к Финляндскому проспекту стороне сквера, на садовой скамейке сидели матрос и девушка, они разговаривали и целовались. Собрав почти все ягоды с первого куста, я стала думать, что лучше – отправиться домой, наверное, мама уже меня ищет и карман полон ягод, или добраться до второго куста и собрать ягоды с него также.
В этот момент уши у меня заложило от резкого прессующего звука — сквер накрыло залпом немецкой батареи, один из снарядов разорвался метрах в пяти от меня. В одно и то же мгновение я всем телом ощутила мощный удар воздуха взрывной волны, подбросивший меня вверх тормашками, резкий рывок за юбку, развернувший меня в полёте, и сильную боль в голове и ушах. В полёте я увидела, как опрокинулась садовая скамейка, и матрос с девушкой исчезли в спуске к траншее, а затем голубой небесный простор, солнце, в направлении к которому я летела, и свои ноги на фоне неба. Мой полёт длился секунду или две, но за это время в моей голове пронеслось не меньше десятка разных мыслей, из которых главных было три: «Я жива или меня уже убили? Куда я теперь лечу, неужели прямо в рай? Наверное, в рай неприлично появиться ногами вверх, как бы мне перевернуться ногами вниз!» В следующее мгновение я упала спиной на второй куст альпийской смородины, и его ветки, ломаясь или наклоняясь, бережно опустили меня на землю. Лежа под кустом, я почувствовала, как по моей правой щеке и шее течет что-то горячее. Провела ладонью по шее и увидела, что она стала красной от крови. В ушах, заглушая все посторонние звуки, громко и больно стучало сердце. Спина была сильно оцарапана. Я, не отрываясь от земли, осторожно перевернулась и легла на живот. И в этот момент до меня дошло, что если бы меня сейчас убило или сильно ранило, об этом в ближайшее время просто никто не узнал бы. Кому может придти в голову искать меня с другой стороны дома, да ещё на наиболее часто обстреливаемом участке? Никому, даже моей маме, которая знает меня лучше всех других…
Зная, что немецкие артиллеристы пунктуально стреляют по одному месту дважды с промежутком между выстрелами в 5-10 минут, я понимала, что не смогу выбраться из сада до второго залпа. Ведь мне надо было добежать до ограды с грозными пиками и перелезть через нее, обежать дом кругом, так как с этой стороны парадных не было, и успеть заскочить в подъезд, так как все подъезды нашего дома были уже на другой улице. Поэтому я осталась лежать под кустом, прижавшись плотно к земле. В результате второго залпа, снаряды которого разорвались ближе к берегу, полёт большинства осколков был направлен в сторону нашего дома. На меня посыпались ветки куста, срезанные осколками снаряда, я сразу вскочила, быстро добралась до ограды и, спрыгивая с нее вниз, оторвала кусок юбки, зацепившийся за пику. Я успела обежать дом, но в тот момент, когда я вскочила в подъезд, снова раздались новые взрывы. Я пробежала во двор и увидела маму, которая металась между жильцами, спрашивая у всех обо мне. Увидев меня, мама так обрадовалась, что забыла меня отругать за моё исчезновение. Потом мама заметила, что моя правая щека и шея в крови – взрывная волна повредила барабанную перепонку правого уха. Дней десять у меня сильно болела голова, моментами я вообще ничего не слышала. С платьем пришлось распрощаться. У юбки, кроме оторванного пикой куска подола, сбоку образовалась большая двойная дыра размером в ладонь, пробитая осколком, и я поняла, что он-то и дернул меня за юбку, пока я летела по воздуху. Если бы этот осколок угодил в меня, меня бы уже не было. Я рассказала маме о матросе с девушкой, и как только обстрел прекратился, кто-то из группы самозащиты сходил в сквер и нашёл траншею пустой, так что они тоже, как и я, не пострадали от обстрела. К сожалению, в тот раз обстрел продолжался весь день, и несколько человек, возвращавшихся с работы, были убиты или ранены при переходе через Финляндский проспект.
Забавно, но мой «полёт в рай» при обстреле нашего садика очень ярко вспомнился мне на первом курсе университета, когда на лекциях по марксизму-ленинизму нас знакомили с философской работой «Вопросы языкознания». Скажу сразу, меняв ней чрезвычайно удивила фраза о том, что мы думаем с той же скоростью, с которой говорим. Поэтому я, вспомнив все свои мысли во время этого полёта, взяла в руки часы с секундной стрелкой и скороговоркой выговорила их в той очерёдности, в какой они приходили мне в голову. Я произнесла вслух только три самые главные мысли, и на это ушло 35-40 секунд, но летела-то я по воздуху не более двух-трёх секунд! Каких-либо аналогий с компьютером у меня не возникло, их тогда просто не было. Поэтому я представила себе свой мыслительный процесс при стрессе не в виде длинной цепочки последовательных фраз, а компактной фигурой, где мысли, расположенные концентрическими слоями, возникали и воспринимались мною одновременно. Что только не придумаешь, пытаясь понять окружающий мир…
Каждую неделю мы с мамой выбирались поливать на огороде капусту. Она росла на удивление хорошо. Даже вредителей было мало, то ли они, как всё живое, погибали во время обстрелов, то ли не могли найти новых мест посадки капусты. Перед уходом домой мы отламывали 2-3 нижних капустных листа. Вечером мама варила из них знаменитые по литературе пустые щи. Между капустными растениями по земле стелились огуречные плети. Плети тыквы ушли с грядки к пруду. А из двух картофелин у нас выросли десять больших картофельных кустов. Когда на огуречной плети появились маленькие огурчики, проходящая мимо наших грядок соседка поделилась с нами секретом выращивания огурцов без потерь от похитителей. Она сказала, что каждый огурчик она засыпает рыхлой землей так, чтобы его не было видно, и посоветовала то же самое делать и нам, так как наш участок был рядом с прудом, куда за водой мимо нас ходили все огородники. И, хотите – верьте, хотите – нет, всю блокаду мы выращивали огурцы именно таким способом. Они росли быстрее, чем лежащие на открытом воздухе, и были не менее вкусными, но не были такими ярко зелёными. Вот так. А теперь мне никто не верит, что огурцы можно выращивать и таким тайным способом.
Возвращаясь домой после очередного посещения бабушки, мы увидели афишу нового документального фильма «Ленинград в борьбе» и пошли на него. Конечно, для нас в этом фильме ничего нового про блокаду не было. Нас только очень удивило, что в фильм попало целых два эпизода, связанных непосредственно с нашей жизнью. В этом фильме был показан превращенный почти в решето автобус, остановившийся у нашего дома и получивший почти весь комплект осколков осколочной бомбы, разорвавшейся после удара о фундамент. Был показан и идущий вдоль решетки Летнего сада мужчина, вырвавший в магазине нашу дневную порцию хлеба и, вероятно, через несколько дней рухнувший мёртвым в снег во время съёмки фильма.
В середине августа перед школой я пошла в детскую поликлинику. Врачу не понравились шумы в верхушках моих легких, и так как я состояла на учёте в тубдиспансере, мне для контроля поставили в этот день пробы на реакцию то ли Пирке, то ли Манту. Когда я вышла из поликлиники на проспект К. Маркса, из репродукторов неслась необычно громкая музыка, почему-то передавали немецкий военный марш. Услышав его, я остановилась в недоумении. Затем музыка зазвучала иначе. У подъезда, ведущего в поликлинику, стояло несколько женщин, и я спросила у них: «Вы не знаете, что сейчас передают по радио?». Мне ответили: «Новую симфонию Шостаковича, Ленинградскую». Звуки музыки были максимально громкими, ещё слыша репродукторы у поликлиники, я через несколько шагов услышала репродукторы у нашего дома. Под музыку Шостаковича я добежала до конторы и там дослушала симфонию до конца. В то время эта симфония вообще не произвела на меня впечатления, особенно странным для меня было звучание немецкого марша, показавшееся мне бледным. Впоследствии, уже учась в университете, я изменила своё отношение к симфонии, выслушав её исполнение в филармонии, на хорах прямо над оркестром. Мощь оркестра обрушивалась на меня так, что звуки, казалось, пронизывали меня насквозь, создавая ощущение силы исполняемого произведения.
В тот день наш участок не обстреливался, и мама послала меня в магазин за хлебом. Стоя в длинной очереди, которая продвигалась очень медленно, так как продавщица должна была очень аккуратно вырезать талончики из каждой карточки, я услышала, как одна из стоявших в сторонке женщин сказала другой: «Посмотри на этого ребенка, ей лет десять, а взгляд – как у семидесятилетней старухи». Мне стало интересно, о ком же они говорят, и я посмотрела в их сторону. Они обе смотрели прямо на меня, наши взгляды встретились, они поспешно отвернулись, а у меня сразу испортилось настроение. Я поняла, что они говорили обо мне. Их фразу я запомнила на всю жизнь.
Военные корабли по-прежнему стояли в Неве. Я с большим удовольствием продолжала один раз в неделю ходить обедать на миноносец. Не меньше обедов мне нравилось задерживаться в кают-компании, чтобы услышать послеобеденные разговоры моряков, которые успели повоевать и на море, и на суше в морской пехоте, имели общих друзей, ещё воюющих или уже погибших. Рассказы моряков, в которых они вспоминали о своих друзьях, их подвигах, их гибели зародили в моей душе любовь и уважение к людям этой профессии на всю мою жизнь. Особенно мне запомнился их рассказ о гибели близких друзей в начале войны при отступлении и переходе кораблей от островов на Балтике в Финский залив к Кронштадту и Ленинграду. Этот переход сопровождался непрерывными атаками на наши корабли немецких бомбардировщиков и истребителей с небес и подводных лодок и торпедных катеров с моря. Командиры кораблей получили приказ — отходить, направив все силы на спасение своего корабля, даже не пытаться оказывать помощь другому кораблю, так как в этом случае погибнут оба. Вот поэтому миноносец, на котором находились рассказчики, прошёл, отстреливаясь от пикирующих на него истребителей, мимо тонущего корабля, на корме которого, ещё видневшейся над водой, стояли их друзья и знакомые. Поддерживая друг друга, моряки пели песню о «Варяге». А два немецких истребителя кругами заходили на них и расстреливали их из пулеметов. Единственное, что смогли сделать моряки этого миноносца, это направить огонь зениток на самолёты и сбить один из истребителей, увидев, как он врезался в воду. Этому поколению, как и моему, не были нужны лекции о патриотизме. Кругом были люди, для которых само понятие Родины было выше всего остального, включая и их собственную жизнь.
Как я уже упоминала, ни одна сброшенная немцами бомба не попала ни в один мост на Неве или Большой Невке. Но, не попав в сам мост, одна из сброшенных бомб взорвалась под Литейным мостом. Сила выброшенной взрывом бомбы воды была такова, что она снесла часть металлических конструкций и пробила многослойное асфальтовое покрытие проезжей части моста, образовав дыру диаметром около четырёх метров. При нашем движении от Литейного проспекта на Выборгскую сторону дыра была на нашей, левой, стороне в середине первой трети его длины (над морским каналом или фарватером). Первые дни она не была огорожена, и при нашем возвращении домой по мосту во время обстрелов надо было о ней помнить, так как дыру из-за частичного повреждения пешеходного тротуара следовало обегать с правой стороны. Помню, что меня тогда страшно поразило то, что вода смогла изогнуть толстые металлические детали, а треугольные куски разорванного по центру удара многослойного асфальта закрутить вверх лепестками какого-то неведомого цветка, сердцевина которого представляла собой дыру до самой невской воды. Эту дыру заделали быстро, сначала застелили досками, потом восстановили всю конструкцию и асфальт.
Такие особенности психологии нашего народа как наплевательское отношение ко многим правилам общественного поведения, а иногда и к опасностям, сказывались и в нашей блокадной жизни. В какой-то мере эта особенность отразилась и в рассказах одного из наших знакомых, до войны побывавшего в Германии в командировке. Рассказывая нам о немцах, он страшно удивлялся их поведению на улице. «Представляете – говорил он всем — на переходе горит красный свет для пешеходов, в обе стороны по улице не видно ни одной движущейся машины, а немцы стоят на тротуаре и ждут, балда балдой, когда зажжётся зелёный. Наши уже давно были бы на другой стороне улицы”.
Это преамбула к моему рассказу, генетически родственному рассказу нашего знакомого. Во время обстрела гражданскому населению полагалось находиться в укрытии. Но если дежурные групп самозащиты и ПВО “загоняли” людей, идущих по улице во время обстрела, в один подъезд, эти люди выходили из другого подъезда и шли дальше по своим делам. Конечно, наиболее интенсивно обстреливаемый участок люди обходили стороной или заходили в укрытие. Наиболее строго во время обстрелов охранялись мосты, к их охране привлекались военные патрули, обычно по два патруля с каждой стороны моста. Как только растаял лёд на Неве, и мы стали добираться до бабушки и обратно сухопутной дорогой, по улицам, почти каждый раз при возвращении домой мы попадали под обстрел и встречались с запретом прохода через Литейный мост. Если не обстреливали район Военно-медицинской академии, то обстреливали Литейный проспект, или наоборот. Но и в том, и в другом случае проход по Литейному мосту перекрывали военные патрули.
И вот представьте себе такую картину. Проход по Литейному мосту охраняется двумя патрулями с каждой стороны моста. У самых близких к мосту домов, на обеих сторонах Литейного проспекта, скапливаются толпы людей, жаждущих перебраться на Выборгскую сторону. Мы с мамой в таких случаях обычно стояли на нечётной стороне проспекта, у здания Артиллерийского училища, где на тротуаре вдоль проезжей части в то время ещё продолжали стоять старинные артиллерийские орудия. На чётной стороне улицы толпа почему-то всегда бывала более многочисленной, может быть потому, что она в хорошую погоду ярко освещалась солнцем, и там было теплее. Когда критическая масса людей превышала какой-то неустановленный показатель, толпа вдруг бросалась бегом на мост. Сдержать массу бегущих людей одному патрулю было не под силу, и ему на помощь бросался второй патруль. Наступал момент Икс для нашей стороны. Мы все кидались на мост, предоставляя патрульным решать дилемму — то ли бросать тех прохожих и начать ловить нас, то ли продолжать ловить их и не начинать ловить нас. Каждый раз патрули решали это по своему, но результат всегда был одинаковым – назад, на Литейный проспект, удавалось вернуть очень немногих. И как только мы легкими короткими перебежками одолевали первую половину моста, нас встречали патрули Выборгской стороны, которые также были заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее освободить от нас мост. В этом наши интересы полностью совпадали, и мы вскоре, минут через пять, уже одолевали баррикады Клинической аллеи.
Эту особенность русского народа отметать от себя неприятности, не обращая на них должного внимания, отметил в своих дневниках еще Бисмарк, несколько лет в составе немецкого посольства проживший в России и в Санкт-Петербурге. Ему так понравилось, что в ответ на серьезные неприятности один из русских просто махал рукой и беззаботно говорил: «А… ништо!», что он заказал себе перстень, на внутренней поверхности которого было выгравировано это выражение, и не расставался с ним до самой своей смерти.
В конце лета, несмотря на то, что к нашему блокадному пайку прибавилась разная съедобная зелень, я стала себя плохо чувствовать. Иногда кружилась голова, что могло быть следствием моей контузии, но чаще всего я была вялой, по выражению одного врача «как разварная макарона», и просто хотела спать, спать и спать. Я перестала вместе с мамой разносить письма. При первой же возможности я устраивалась на постели и засыпала. Мама отвела меня к нашему детскому врачу. Там меня простукали и промяли самым тщательным образом. Потом врач сказала маме: «Девочка растёт, ей сейчас надо много белков, а их нет. У неё общая дистрофия второй степени и миокардиодистрофия. Как только у нас откроют стационар для детей, мы её положим на лечение, поддержим хоть немножко. А сейчас минимум нагрузок, хочет спать – пусть спит. И ещё, не меняйте водку на хлеб (по рабочей карточке полагалось пол литра водки в месяц), в водке калорий значительно больше. Попробуйте давать девочке каждый день чайную ложку водки во время еды». Не верите этому? Напрасно.
Маме тоже стало трудно работать почтальоном, теперь, без меня, ей приходилось разносить письма по квартирам и верхних этажей. В сентябре я должна была пойти в школу, но у меня не было сил дойти до неё. На этот раз моя школа находилась на Ломанском переулке (теперь улице комиссара Смирнова) напротив здания госпитальной хирургии Военно-медицинской академии. После того, как школьный врач выяснила у поликлинических врачей, что я не прихожу в школу по врачебным показаниям, меня оставили в покое и перестали присылать письменные приглашения на уроки.
Муза начала учиться в пятом классе, а я, пребывая в состоянии какой-то странной апатии, оставалась дома. Мама тоже после длительного хождения по этажам приходила домой без сил, валилась на кровать и моментально засыпала. Но её, как начальника группы самозащиты, продолжали поднимать ночью и при патрульных обходах дома, и при телефонных звонках из комитета обороны. Из писем папы того времени я поняла, что состояние мамы его сильно обеспокоило. В августе он писал: «Уйди с работы на почте, воспользуйся приглашением Шевелёва и начни работать дворником, будешь ближе и к дому, и к Ирме». Вскоре мама уволилась с работы на почтовом отделении и устроилась старшим дворником в нашем же домохозяйстве. Это дало ей возможность не оставлять меня надолго одну дома. Кроме того, ей, как начальнику группы самозащиты, было удобнее быть вблизи конторы, так как по телефону постоянно поступали запросы о состоянии территории после очередного обстрела, о людских потерях, давались распоряжения по принятию тех или иных неотложных мер, делались замечания по недостаткам, отмеченным начальством при инспекторских объездах нашего района. На вопросы о раненых и убитых, о разрушениях, причинённых обстрелами, мама, как правило, отвечала: «Эти сведения по телефону я передавать не буду». В первое время начальство шумело, потом перестало задавать такие вопросы по телефону, а после массированных длительных обстрелов заезжало к нам и получало устную информацию на месте.
В середине сентября в один из ясных солнечных дней мы вместе с Петровичем поехали снимать урожай капусты. Меня взяли с собой, чтобы я, сидя на солнышке, провентилировала лёгкие свежим воздухом. Когда взрослые стали убирать с гряд капусту, я не выдержала и тоже подключилась к работе. Каждый кочан мы срезали со всеми зелеными листьями, которые, как сказал Петрович, после засолки отдельно от кочанов станут хряпой. Такое слово я услышала впервые, и оно отчего-то показалось мне похожим на ругательство. «Петрович – спросила я — а что потом с хряпой делают?». «Хряпу будем хряпать — бодро ответил Петрович, и пояснил — В деревне хряпой не только свиней кормят, но многие люди и сами её едят, а если такие щи из листьев сварить со свининкой…», и он тяжело вздохнул. Я поняла, что это может быть вкусно, и у меня от одного мысленного представления такой вкуснятины потекли слюнки. На следующий день дома я распевала на мотив весёлой песенки из какой-то оперетты: «Землю будем тяпать, а хряпу будем хряпать», до тех пор, пока мама не сказала: «Всё. Умолкни. Не могу больше слышать про твою хряпу». А какая рифма была…
На наше счастье Петровичу дали машину, чтобы перевезти за один раз всю капусту домой. Урожай поделили честно пополам. Петрович подарил нам кадку из своего сарая и, улетая на север, попросил маму засолить в маленьком бочонке и его капусту. Шинковки у нас не было, поэтому более недели каждый вечер мы с мамой резали капусту ножами. В буфете мама нашла пакетик с тмином и добавила его в капусту, моркови у нас не было. Кончив резать и солить свою капусту, мы пошли к Петровичу и начали свою работу там. На наше счастье, он в первый же вечер нашего труда вернулся. Увидев нас режущими капусту ножами, он сказал: «Что за тришкин труд? Капусту шинкуют шинковкой». И достал откуда-то доску, посреди которой горизонтально было закреплено острое лезвие. Нам оставалось только водить кочаном по доске взад-вперед, и через несколько минут с ним было покончено. За два вечера вся капуста Петровича была нашинкована и посолена. Кадку с капустой мы поставили в бабушкину комнату, в которой вообще печки не было. Поэтому капуста стояла там при температуре чуть выше или около нуля и не испортилась до самой весны, пока мы её всю не съели. Даже из тех двух картофелин, что мы сажали ростками, был получен вполне хороший урожай – большое ведро картошки. Правда, большинство картофелин было размером чуть больше грецкого ореха, а самые большие — с куриное яйцо.
Чтобы вывести меня из состояния апатии, в которое я впадала при каждом удобном и неудобном случае, и вернуть мне нормальное восприятие всего происходящего, мама достала билеты в Выборгский дом культуры на спектакль под названием «Орешек» (или «Крепкий орешек»). По-моему он был назван опереттой, теперь его назвали бы мюзиклом, так как действующие лица только периодически пели, но в основном много говорили. По ходу действия спектакля наш разведчик попадает под видом немецкого офицера в дом немецкой баронессы, которая потом тоже оказывается антифашисткой. Баронессу играла хорошая комедийная актриса, тощая и высокого роста, возможно, Богданова-Чеснокова. В одной из сцен она появлялась в черном наглухо застегнутом спереди платье. Но когда она повернулась к зрительному залу спиной, все дружно ахнули – спина была обнажена до пояса, а всю «Мадам Сижу» прикрывала вышивка огромнейшего ярко желтого подсолнуха. Раздались громкие продолжительные аплодисменты, зрители были в восторге и от оригинальности наряда, и от мужества актрисы, так как была холодная осень и в зале тоже было холодно, и когда актеры говорили или пели, было видно, как из их ртов вылетают клубочки пара. Мы тоже, отсидев спектакль в холодном зале, к его окончанию порядком подмёрзли, но всё равно, наше настроение заметно улучшилось.
Впереди нас ждала зима, возможно, такая же суровая, как прошлая. А дров для отопления домов ни у кого не было. Решение такой важной проблемы как обеспечение топливом населения городские власти нашли в разборке на дрова деревянных домов. Перед войной в Выборгском и других районах города между каменными домами во многих дворах ещё сохранялись двухэтажные деревянные постройки. В большинстве случаев это были жилые дома, реже магазины или конторы учреждений. Маминой «бригаде» самозащиты для разборки на дрова выделили два дома. Один дом до войны принадлежал магазину мебели, он стоял вдоль Финляндского проспекта, занимая пролёт от Астраханской до Саратовской улицы. Второй дом был жилым, значительно меньшего размера, и умещался во дворе дома 5/7 по Астраханской улице.
Первый дом женщинам помогли разобрать мужчины, ещё не получившие повесток и не отправленные на фронт. При их участии все доски и бревна были перетащены во дворы домов, в которых ещё оставались люди. Ко времени разборки второго дома мужчин практически не осталось: большинство молодых ушло на фронт, а пожилые рабочие высокой квалификации, выполняющие наиболее ответственные и сложные задания, часто так уставали, что неделями не уходили с заводов, оставаясь спать возле своих станков. Поэтому разборка второго дома проводилась силами одних женщинами, которые для облегчения работы решили начать разборку дома с первого этажа. В результате чуть не погибла мама.
В один из дней мама поднималась по деревянной лестнице на второй этаж. Когда до площадки второго этажа оставались 2 или 3 ступеньки, верх лестницы отошёл от площадки, и ступеньки, на которых стояла мама, рухнули вместе с нею вниз. Сейчас трудно назвать причину, по которой надломились и упали несколько верхних ступеней этой лестницы. В результате маму выкинуло в пролет лестницы, на которой уже были сняты деревянные перила, но оставались торчащие вверх металлические прутья, к которым раньше и крепились перила. Маме крупно повезло. Погода уже была холодной и она надела на работу широкие ватные брюки. При падении мамы вниз металлический прут проткнул брючину по всей длине и упёрся в широкий кожаный ремень на её талии, остановив мамино падение в подвал. Мама отделалась испугом, большими синяками на бедре и голени и сильным сотрясением всех тех внутренних органов, которые могли сотрястись при таком падении. Чтобы снять маму с металлического прута, женщинам пришлось затратить массу усилий – надо было вытащить маму из брюк, насквозь прошитых ржавым металлическим прутом, и при этом не уронить её в подвал, а потом стащить брюки с прута, чтобы ей было в чём возвращаться домой. Как всегда в таких случаях раздался звонок в двери нашей квартиры, и две женщины скороговоркой мне сообщили: «Ивановна упала в подвал со второго этажа! Беги скорее, может она ещё жива!». Я выскочила и бросилась бегом по лестнице вниз, выбежала из подъезда, а навстречу мне идёт, сильно прихрамывая, мама. «Куда помчалась? Я в порядке! Давай-ка домой, мне ногу и бок надо срочно обработать йодом, будешь помогать!».
На ноябрьские праздники вдруг, совершенно неожиданно для всех нас, дали электричество. Мы вытащили из буфета электрический чайник, согрели в нём воду и для чаепития, и для обеда, и для мытья, и для стирки. Но кончились праздники, и электричество опять отключили.
Наш управдом Шевелёв получил повестку из военкомата, и мама, проработав дворником три или четыре месяца, стала управдомом. Перед отправкой на фронт его отпустили дня на два, чтобы он передал все домовые дела маме. Прощаясь со всеми нами, он так же, как и Борис, сказал, что чувствует и знает, что будет убит в первом же бою. И, действительно, вскоре после его отправки на фронт в домохозяйство на него пришла «похоронка», а кто-то из его фронтовых товарищей по его просьбе письмом сообщил, что он был убит в первом же бою.
Маме пришлось совмещать хозяйственные заботы по дому с организацией работ группы самозащиты. Во время продолжавшихся в нашем заводском районе обстрелов воздушной волной и осколками вышибало остатки стекол и фанеру в окнах многих квартир. Дождь и снег попадали в комнаты, жильцы которых были на фронте или в эвакуации. Если фанера, листами которой забивали оконные проемы, вылетала на улицу, её надо было срочно подобрать и принести в контору, продолжался ли в это время обстрел или нет. В противном случае дворники соседних домов, бывшие в таком же положении, что и наши, быстро присваивали имущество квартир нашего дома. В любое время суток могли позвонить по телефону «сверху»: «В вашем доме со стороны Оренбургской улицы на третьем этаже открыт целый ряд окон. Срочно заделайте их для сохранности имущества граждан». Главная трудность заключалась в том, что заделывать окна было уже нечем.
Обычная ситуация в блокадном городе. Продолжается интенсивный обстрел кораблей, стоящих на Невке перед нашими домами. Звонок по телефону: «На ваш участок спускается немецкий парашютист, примите меры к его задержанию. Группу захвата высылаем». Среди женщин, дежурящих в конторе домохозяйства, сперва полное остолбенение, затем все хватают ломы и выскакивают на улицу. Сумерки. Видно, как с неба, сильно раскачиваясь, спускается огромный парашют. Всех женщин волнуют вопросы, которыми они и обмениваются:жив или убит немецкий летчик, если жив, то вооружён или нет, и если вооружён, то чем, автоматом (это плохо) или пистолетом (тогда справимся)? Огромный кусок блестящей материи накрывает всех женщин разом, парашютиста под ним нет и быть не может. Очередью немецкого летчика или осколками наших зениток пробита «шкура» нашего аэростата, который после потери водорода и грохнулся к нам на участок. Из-под оболочки спавшегося аэростата женщины выбирались с хохотом, сразу же позвонили в штаб, чтобы не присылали группу захвата. Напоследок в телефонном разговоре позволили себе с большим ехидством спросить, как можно было перепутать аэростат с парашютом, но ответа не получили.
Управдомом мама пробыла тоже очень короткое время. После очередного обстрела и требования со стороны начальства немедленно восстановить вынесенные взрывной волной двери и заделать все окна, в которых были выбиты стёкла и картонки, она в исполкоме выступила с резкой критикой районной ремстройконторы, которая, несмотря на своё назначение, не обеспечивала домохозяйства никакими материалами. Начальник отдела снабжения, выслушав её претензии, заявил: «Раз она такая умная, пусть и работает на моём месте, а я лучше на фронт пойду!». Мама вернулась домой в расстроенных чувствах и в новой должности. Управдомом сделали её зама по группе самозащиты Татьяну Ефимовну Пуртагон.
Наступили зимние холода. Таких сильных морозов, как в прошлую зиму не было, но самое ужасное теперь заключалось в том, что я не смогла влезть в свою старую зимнюю обувь. Оказалось, что те же проблемы возникли и у Музы. Её мама сказала нам, что если мы раздобудем меховые рукавицы, то она сделает нам выкройку обуви, которую шили в деревне в дни её молодости. Однажды, когда рота солдат остановилась на отдых недалеко от моста, Муза потянула меня за руку: «Пошли просить». Я просить не умела, но пошла вместе с ней в качестве «группы поддержки». Муза была прехорошенькой девочкой с большими тёмно голубыми глазами, опушенными густыми темно коричневыми ресницами, и с пышными волосами, кончики которых завивались в аппетитные колечки. Подойдя к солдатам, Муза самым нежным голоском проговорила: «Товарищи солдаты, дяденьки, если у вас есть лишние или старые рукавицы, отдайте их нам, пожалуйста. Мы из них сошьем себе чуни, а то нам не в чем в школу ходить». Я абсолютно не верила в успех этой операции – откуда у солдат лишние рукавицы, но, как оказалось, я была не права. С доброй улыбкой глядя на Музу, кто-то из них порылся в карманах, кто-то в рюкзаке, и мы получили по две пары роскошных меховых рукавиц. Ну а держать в руках иголку и её, и меня научили лет с пяти, так что двух или трех дней нам хватило на пошив теплой и мягкой зимней обуви. Чтобы наши чуни не промокали в тающем снегу, мы их подшили, я — кожей старого портфеля, а Муза — клеёнкой со стола. Самое главное было в том, что эта обувь, изготовленная своими руками, оказалась очень тёплой и отслужила нам два года.
Новый 1943 год мы встречали вместе с Татьяной Ефимовной, к которой по пути с Северного фронта в Москву заехал на несколько дней её муж Борис Еремеевич. Новогодний стол по тем временам был шикарным. На столе были отварная картошка (последнее воспоминание о бриллиантовых серьгах Татьяны Ефимовны), кислая капуста (наши огородные достижения), мясные консервы и селёдка (подарок мужа). Взрослые пили водку за Новый год, снятие блокады и скорейшую победу над немцами. Мы с Гариком “нажимали” на всё съестное.
Наш район в этот день не обстреливали, что тоже можно было считать подарком. Накануне, в результате сильнейшего обстрела нашего участка, было много раненых и убитых. Первые шрапнельные снаряды поразили людей, стоявших в очереди в магазин или возвращавшихся с работы. Несколько часов группа самозащиты выполняла свою тяжелую работу по оказанию помощи раненым и по очистке Финляндского проспекта от разорванных снарядами тел погибших людей. Прилетевший утром в Ленинград Борис Еремеевич принял деятельное участие в выносе раненых на носилках с улицы в укрытия. Сидя за столом в новогодний вечер, он всё ещё находился в шоке от увиденного накануне. «Не понимаю, как вы тут живёте? У вас ведь даже не разберёшь, откуда летит снаряд, одновременно слышишь и свист, и его эхо. В полевых условиях гораздо легче ориентироваться». Женщины в ответ только посмеивались.
Я по-прежнему пребывала в состоянии полуспячки, даже любимые книги не могли победить мое дремотное состояние. Я брала в руки рассказы о Маугли и Киме, о Персивале Кине, которые всегда перечитывала с большим интересом, с подъёмом настроения. Но теперь уже через 5 минут мои глаза закрывались, я засыпала. Иногда я спускалась к маме в контору, чтобы узнать последние наши новости по городу, которые заходили обсудить все жильцы, возвращающиеся с работы. Но и там я, забравшись в старое кресло, ухитрялась под шум голосов крепко уснуть. Вскоре после встречи Нового года я по врачебному направлению была положена на два месяца в стационар “для юных дистрофиков”.
Этот стационар занимал помещения второго этажа Посельцаровского дома и находился непосредственно над детской поликлиникой. Когда я попрощалась с мамой и поднялась на второй этаж, то первое, что сделали со мной, это усадили на холодное металлическое кресло, сиденье которого было обито белой медицинской клеёнкой, и остригли наголо, сперва ножницами, потом машинкой, которая ужасно щипалась и выдёргивала у меня волосы. Все мои протесты не помогли, и я лишилась своих кос, которые в то время доросли уже до пояса. «Что ты крутишься, не голову же тебе с плеч снимаем, а волосы стрижём, они ещё сто раз такими вырастут». Мои уверения, что вши на мне не заводятся, были встречены с иронией — «Такого не бывает, а нас закроют, если хоть одну вошь у кого-нибудь из вас найдут». Потом мне показали мою кровать и оставили знакомиться с пятью другими девочками в этой палате. Они тоже, как и я, находились в полусонном состоянии, поэтому я ни с кем из них близко так и не познакомилась. Первые три дня для меня были ужасными — моя остриженная наголо голова воспринимала малейшие дуновенья воздуха и от холодных оконных стекол, и от открывающихся дверей, и от быстро проходящих мимо меня людей. Я сделала чалму из полотенца, чтобы голова не мёрзла, но уже на четвертый день перестала реагировать на сквозняки.
В стационаре нам каждое утро давали стакан соевого молока, потом мы получали разные каши с маслом и соевые шроты – отжатые на масло дроблёные соевые бобы. Эти бобы должны были восполнить нам нехватку животных белков. Постепенно моя сонливость пошла на убыль, я вылезала из-под одеяла и усаживалась на широкий деревянный подоконник. Палата находилась в угловом помещении, и я могла сверху смотреть то на проспект Карла Маркса, то на Клиническую аллею, то на музей Пирогова. Глядя на людей сверху, я вдруг увидела золотые погоны на чёрных шинелях военных моряков, затем зелёные погоны на шинелях пехотинцев. Это было очень непривычно и странно, ведь в кинофильмах погоны были только у белогвардейцев. Навестившая меня мама сказала, что для армии разработана новая форма одежды, более приближённая к традиционной форме российских войск.
Восемнадцатого января воздух города несколько часов гудел от артиллерийской канонады. Сила звука была такой мощной, что коле6ания воздуха ощущались не только ушами, а всем телом. Никто не мог понять, что происходит, то ли немцы нас штурмуют, то ли наши войска перешли в наступление и бьют немцев. Радио молчало. Только на следующий день мы узнали, что наши войска прорвали блокаду, и город теперь будет связан с остальными территориями северо-запада России не только водной или ледовой дорогой через Ладогу, но и сухопутным путем.
Едва прошёл месяц моего пребывания в стационаре, как маму вызвали и обрадовали её тем, что за этот месяц я успела прибавить в весе более пяти килограммов, и теперь выгляжу не дистрофиком, а при моём маленьком росте почти толстушкой. Затем врачи сказали, что должны также огорчить её тем, что им необходимо меня выписать, чтобы кто-нибудь из родителей не обвинил их в том, что они держат меня в стационаре по блату. Мама обрадовалась и сказала, что она очень скучала без меня и только рада моей выписке. Не знаю, подействовали на меня соевые белки или что-то другое, но моя сонливость и головокружения прошли, меня выписали в школу, в которой уже началась третья четверть занятий.
Большой проблемой при возвращении в школу у меня стало отсутствие портфеля, так как мой старый лопнул по всем швам, а самые крепкие его куски я использовала на подшивку меховой обуви. И тут меня выручил мамин брат, Виктор, подарив мне свою полевую сумку. Длинный ремень позволял носить сумку через плечо, тетради прекрасно помещались. Единственным недостатком сумки было то, что в неё можно было запихнуть только один учебник, а не все учебники уроков того дня, и если ты чего-то недоучил, то наскоро просмотреть на перемене заданное на дом уже не удавалось. Но с сумкой я не расставалась на всём протяжении своей дальнейшей учёбы вплоть до окончания университета.
Следующим событием после возвращения из стационара стало празднование моего уже прошедшего дня рождения. Мы его праздновали втроем – я, мама и Муза. Муза ко мне пришла с поздравлением и в подарок принесла мне маленького серого мышонка в литровой банке. Он в их квартире попал в мышеловку. У нас на пианино стояла большая круглая ваза из стекла, переливающегося всеми цветами радуги – хорошая имитация мыльного пузыря. Эта ваза и стала новым жилищем мышонку. С таким малышом мы вполне могли поделиться крохами даже от наших порций еды. На дно вазы поместили бумагу и несколько картонных коробочек – домиков, в которых мышонок мог прятаться, в одну солонку налили воду, а в другую положили по крошечке всего съестного.
Первого февраля мы с мамой вдвоём отпраздновали её день рождения. Маме исполнилось целых тридцать четыре года. Меня очень обрадовало то, что несмотря на все ужасы нашего блокадного существования, в маминых чёрных волосах не появилось ни одного седого волоса.
После прорыва блокады немецкие войска всё ещё оставались вокруг города. Их артиллерия с ещё большим остервенением продолжала его обстреливать, в февральские дни на нашем участке разрывы снарядов гремели с утра до ночи. Девятого февраля город обстреливался весь день. Шрапнелью, рвавшейся на Финляндском проспекте, утром убило и ранило несколько мужчин, спешивших на работу, а днем убило женщин, перебегавших улицу, чтобы попасть в магазин. В этот день я собиралась пойти обедать на корабль, но утром маме позвонил Константин Иванович и сказал, что у них тоже убило часового и ещё несколько человек, всей команде будет не до обеда.
Вечером того же дня нам сообщили, что погибла гимназическая подруга моей тёти и хорошая знакомая нашей семьи – Аннета. Она жила недалеко от нас, в доме на Саратовской улице, в комнате с двумя большими окнами. Боясь влетающих при обстрелах в окна осколков, она передвинула свою кровать в простенок между окнами. Рано утром, когда она ещё спала, тяжёлый снаряд ударил именно в этот простенок, и он полностью рухнул в комнату, своей тяжестью раздавив и деревянную кровать, и спавшую на кровати Аннету.
Первое полугодие 1942-1943 учебного года я пропустила целиком. После того, как закончилось моё лечение в стационаре для дистрофиков и врачи дали разрешение на посещение школы, я, наконец-то, во втором полугодии отправилась учиться снова. Все мамины попытки определить меня в пятый класс закончились неудачей. Мама не сомневалась, а я была уверена, что для меня не составит большого труда самостоятельно освоить все материалы первого полугодия. Но не тут-то было, весь педагогический состав лег костьми против моего зачисления в следующий класс. Мне оставалось одно — ещё раз, но в худшем исполнении, прослушать материалы, уже пройденные в четвёртом классе Образцовой школы.
Из-за продолжавшихся артиллерийских обстрелов мне приходилось добираться до школы, почти прижимаясь к стенам чётных домов по проспекту Карла Маркса. Потом, перед переходом на другую сторону проспекта, нужно было переждать очередной залп, и сразу после разрывов снарядов перебежать проспект и нырнуть в подъезд школы, размещавшейся на Ломанском переулке в первом доме слева от проспекта, напротив госпиталя ВМА.
Нужно сказать, что при моём появлении в школе во втором полугодии учебного года я попала в класс со сложившейся иерархией, где уже были определены основы взаимоотношений всех членов большого коллектива. Это был последний год совместного обучения мальчишек и девчонок, когда борьбу за пост неформального лидера вели представители обоих полов. Наиболее активно боролась за этот пост Галина. Эта девочка, будучи года на два-три старше всех остальных в классе, была также намного крупнее большинства одноклассников и значительно сильнее физически. У неё было красивое, но злое лицо, и ей явно нравилось то, что когда она идёт по школьному коридору, многие шарахаются от неё в сторону. Исключением был один — высокий, казавшийся толстым (несмотря на голод) и физически очень сильный подросток, которого звали Мишкой. Он не относился к тем, кто постоянно борется за своё лидерство, но у него хватало и силы, и ума, чтобы существовать в классе, никому не подчиняясь.
Галину я хорошо запомнила потому, что она постоянно командовала всеми в классе, и тот, кто не выполнял её требования, получал от неё взбучку. Дралась она по любому пустячному поводу, всегда стараясь причинить «противнику» максимальную боль. Часто доставалось от неё и мне. Несмотря на то, что я была на год старше других учеников, я оказалась самой маленькой в классе и достойного физического сопротивления оказать ей просто не могла. Правда, и выполнять её приказы я не собиралась, и не выполняла, что её бесило и я при случае могла получить хорошую затрещину. И вот однажды Мишка, увидев, что она начинает задирать меня в очередной раз, лениво, вразвалочку, подошёл к ней и коротко сказал: ”Кыш!”. Она отскочила от меня в сторону, а мне оставалось только сказать «спасибо» своему спасителю. Мне повезло, благодаря Мишке она вскоре перестала приставать ко мне вообще. Галина больше ко мне не подходила, в упор меня не видела, я потеряла для неё интерес как предмет для развлечений и поэтому перестала для неё существовать. А перед самым окончанием учебного года Галина исчезла из нашей жизни совсем, она не приходила в школу, и большинство девочек вздохнуло с облегчением. Потом на родительском собрании кто-то из педагогов рассказал, что Галина как член банды, ворующей продукты с грузовых машин, была арестована при очередном грабеже машины, выехавшей с кондитерской фабрики.
Мишка дружил с Борей Аксёновым, сыном нашего школьного врача и будущим профессором Политехнического института. Подружилась с ними и я. После того, как у нас образовался тройственный союз, я уже могла не бояться не только Галины, но и драчунов из других классов. В этой школе я неожиданно для себя встретила свою самую первую и очень уважаемую мною учительницу Веру Николаевну Гарнишевскую, у которой была богатая библиотека детских дореволюционных книг. Эта встреча очень скрасила моё существование того периода. Она жила по соседству со школой и по окончании занятий я заскакивала к ней за очередной книгой. Более всего из её книг мне запомнились рассказы и повести Вудхауза и Чарской.
Где-то в весенние месяцы, в конце марта или в начале апреля, в нашей школе появился Осип Дунаевский, брат Исаака Дунаевского, композитора. О том, кто это такой, мы узнали только на следующий день. Он искал по школам талантливых ребят для сводного детского хора. В небольшом актовом зале нашей школы собрали всех учеников. Дунаевский, сев за рояль и сделав несколько аккордов, объявил: «В зале остаются только те, кто любит музыку и любит петь. Все остальные – марш домой». Я очень любила петь и поэтому осталась в зале. Он подзывал к себе очередного ученика или ученицу и предлагал спеть любимую песню, потом последовательно звучало несколько нот на рояле, и он просил повторить их голосом. Записав (или не записав) фамилию, он вызывал на прослушивание следующего ученика.
Дошла очередь и до меня. «А какую песню ты любишь?» — спросил Дунаевский. Я в то время больше всего любила «Застольную песню» Бетховена: «Налей, Бетси, мне грогу стакан/ последний в дорогу/ бездельник, кто с нами не пьёт», но я уже понимала, что эта классика в школе не пройдёт. Поэтому сказала, что могу спеть песню Дунаевского «Жил отважный капитан». Но почти сразу, как я начала петь, Дунаевский замахал на меня руками и, обращаясь к ребятам, спросил: «Вы что-нибудь слышите? Я слышу только пи-и-и, пи-и-и, писк совсем как у комара, мышь и то громче пищит». Я остановилась, а он продолжал: «Тебя же за полметра уже не слышно. А ну, ребята, что вы только что слышали? Пи-и-и! Ну-ка, давайте вместе!». Ребята с радостью подхватили, а я, выходя быстрым шагом из зала, слышала повторяемое ими на все лады «Пи-и-и».
И тогда, и сейчас, спустя много лет, я не могла и не могу понять, зачем он в тот день сделал меня козлом отпущения. Мог бы просто сказать: «Девочка, ты очень тихо поёшь, а нам нужны те, кто поёт громко». На следующий день Дунаевский прослушивал ребят уже в какой-то другой школе, а я на школьной лестнице и в коридоре постоянно слышала от идущих навстречу ребят: «Пи-и-и, пи-и-и». Так продолжалось несколько дней, мое терпение истощилось и лопнуло, и когда вблизи меня было особенно много ребят, я сказала им: «Меня честно отказались взять – я пищала. А вот вас всех по головке хорошо погладили, похвалили, что громко поёте, да что-то всех и позабыли, вы этим очень довольны? Пи-и-и?» и с удовольствием показала им язык. Ответом было молчание, больше «Пи-и-и» от них я не слышала.
Мама мне говорила, что лет до трёх я была идеальным ребенком – не хныкала, не плакала, не орала, меня вообще не было слышно. Моя “идеальность” вышла мне боком, когда предложили читать лекции. После прочтения курса лекций в большом зале, где потребовалось напрягать голос, чтобы все меня слышали, у меня заболело горло и голос “сел”, я хрипела и почти не могла говорить больше месяца. Заключение отоларинголога было таково: «Орать во всё горло надо было, пока была маленькой, тогда и связки были бы крепкими. С такими связками как у тебя лекции вообще читать нельзя». И мне пришлось отказаться от перехода в университет на преподавательскую работу.
Первомайские праздники сорок третьего года были отмечены многочасовым артиллерийским обстрелом города. Поэтому все, кто мог, отсиживались в эти дни в помещениях, наиболее защищённых и от снарядов, и от осколков. Экзаменов весной сорок третьего года в нашей школе ни у кого не было, в результате мы закончили учёбу уже в первых числах июня. В это время прилавки магазинов опять были завалены горками лебеды и крапивы, скрашивающих наше однообразное питание.
После перехода на работу в ремстройконтору мама получила свой участок земли на огородах этого учреждения. Эти огороды находились значительно дальше от нашего дома, чем огород Петровича. Слева от проспекта Энгельса, сразу за Скобелевским проспектом, остались свободные от застроек земли и парк, на территорию которого перед войной собирались перевести ленинградский зоопарк. Возможно, что до войны здесь были огороды проживающих вблизи в деревянных домах горожан, так как земля была гораздо плодороднее, чем на участке между двух железных дорог. По выходным дням мы с мамой на трамвае ездили на свой огород, на котором кроме капусты посадили и немного картошки. Татьяна Ефимовна, которая продала хозяину дачи свои бриллиантовые серьги за два мешка картошки (по предварительному уговору было обещано три или четыре мешка, но как только серьги перекочевали в руки хозяина картошки, он об этом “забыл”), 15 картофелин подарила нам. Когда картофель дал проростки, каждая картофелина была разрезана на несколько частей, подсушена, посыпана золой, а затем посажена. Хотите, верьте – хотите, нет, но в результате мы сняли пять больших вёдер крупного картофеля. В эту весну у нас уже были собственные семена огурцов и тыквы. По совету соседки мы ещё на огороде Петровича оставили на огуречной плети один большой огурец и не снимали его до тех пор, пока он не стал ярко оранжевым – созрел и дал нам семена. Мы по прежнему, как делали все огородники на том огороде, закапывали завязи плодов в землю, чтобы у людей, проходящих мимо, не возникало соблазна сорвать их себе. И представьте себе, огурцы прекрасно себя чувствовали, быстро росли и были очень вкусными.
Несмотря на обстрелы, которые в июле были почти ежедневно, всех школьников привлекли к сельскохозяйственным работам и начали возить на совхозные поля. В начале лета мы пропалывали рядки с рассадой капусты, позже пропалывали турнепс. Еще позднее, в августе, выкапывали корнеплоды турнепса и складывали их в кучи. На тех полях, куда нас посылали работать, главной культурой был турнепс. К концу августа его корнеплоды стали крупными, белыми с ярко лиловым или фиолетовым верхом, по вкусу похожими на редиску, но со значительно более жёсткой мякотью. Как-то раз мы разделили такой корнеплод на всю нашу группу и сгрызли его мякоть. Наш обед завершился тем, что у всех сильно разболелись животы, и наш интерес к турнепсу как к чему-то съедобному полностью был потерян. В августе начались избирательные обстрелы полей, на которых работали школьники. Нам повезло, среди нас никто не погиб, но другим везло меньше.
В конце сельскохозяйственных работ у меня перед выходом из дома для поездки на огород закружилась голова, я упала в коридоре и хотя не потеряла сознания и вскоре самостоятельно поднялась, какое-то время при ходьбе должна была держаться за стенку. Кончилась это тем, что мама не пустила меня на полевую работу, уложила в постель и вызвала врача. Опять прозвучал диагноз – миокардиодистрофия. И меня освободили от всех работ на неделю. К сожалению, когда составляли списки школьников на награждение медалью “За оборону Ленинграда”, мне для получения медали не хватило именно этих двух или трёх дней, которые я провалялась в постели.
В июле 1943 года, после награждения всего начальствующего состава, началось награждение медалью рядовых граждан, участвующих в обороне города. Одной из первых награждённых была моя мама. В этот день она была приглашена в Исполком Выборгского района, находившийся на другом от нашего дома конце проспекта К. Маркса. Какую-то часть пути мама проехала на трамвае по Лесному проспекту. Начался обстрел, и трамваи встали. Маме, чтобы не опоздать на награждение, пришлось идти пешком. Когда она дошла до Литовской улицы, пересекающей Лесной проспект под железнодорожным мостом, то увидела причину остановки всех трамваев на проспекте. Под мостом стояли два встречных трамвая, один из которых только что отошёл от остановки, другой не успел до неё дойти. В тот момент, когда они поравнялись, в них попало несколько снарядов. Это было время окончания работы на многих предприятиях, вагоны были набиты людьми. В результате прямого попадания снарядов в вагоны многие пассажиры были убиты сразу, многие тяжело ранены. Мама, вернувшаяся вечером после церемонии награждения медалью, говорила, что такого количества пролитой крови до этого она не видела никогда, кровью была залита вся мостовая. Когда мама стала переодеваться, подмётки и бока ее туфель были в крови погибших людей. Поэтому она не любила вспоминать этот день, хотя очень гордилась полученной медалью.
Новый учебный год 1943-1944 годов начался в женской школе N105, находившейся на Бабурином переулке (теперь улице Смолячкова) в непосредственной близости к Лесному проспекту. Длинное четырех- или пятиэтажное здание, где размещалась школа, подворотня делила на две равные половины. Левая половина принадлежала школе, а правая – двадцатому отделению милиции. За небольшим участком покрытого асфальтом школьного двора, примыкая к нему, был расположен великолепный сад имени К. Маркса (теперь Сампсониевский сад) с Сампсониевской церковью на противоположном от школы конце сада. Рядом с церковью, слева от входа, сохранялись могилы министра А. П. Волынского и теоретика архитектуры и одного из первых архитекторов С.-Петербурга П. М. Еропкина, казнённых в 1740 году по приказу Анны Иоанновны за выступления против её фаворита Бирона. Почему-то этот сад, заложенный ещё в начале 18-го века, не оказался под охраной как памятник культуры, и, уже после войны фактически был уничтожен нашими современниками, проложившими через него Гренадерскую улицу.
Мой путь до школы, по сравнению с другими школьницами, был одним из самых длинных, так как наш дом стоял почти на самом берегу Большой Невки, там, где сейчас находится левое крыло гостиницы «Санкт-Петербург». Все другие ученицы жили значительно ближе к школе. Мне ежедневно надо было проходить по Финляндскому проспекту до проспекта Карла Маркса, и затем по этому проспекту дойти до переулка Бабурина. Путь даже самым быстрым шагом занимал не менее 35 минут. За два прошедших с мирного времени года я выросла и из всей летней обуви, вместо 32-го мне был нужен уже 33-ий размер, а магазины были пусты. И вдруг в них летом появились деревянные сандалеты. Две деревяшки были между основанием и пяткой соединены плотной материей вроде брезента, сверху к деревяшкам были прикреплены тесемки для привязывания обуви к ногам, а cнизу к деревяшкам приклеивались резиновые серые кругляши, очень похожие на пробки от пенициллиновых бутылочек. Несколько дней мы в этой обуви ходили почти бесшумно, но скоро резиновые амортизаторы у всех отлетели, и наши сандалеты начали звонко стучать по асфальту как кастаньеты. Если по улице шло одновременно несколько школьников, то на громкий стук сандалет все взрослые оглядывались и укоризненно качали головами, как будто мы были виноваты в том, что так громко ходим по асфальту.
Перед отправкой меня в школу на Бабурином переулке мама взяла с меня честное слово, что и туда, и обратно я буду ходить только по чётной стороне проспекта К. Маркса, которая считалась наименее опасной при артобстрелах. Именно по этой стороне проспекта, начиная от Сахарного переулка и до Гренадерской улицы, были расположены все заводские и фабричные постройки, входы в которые, в основном, были со стороны набережной, а кирпичные глухие стены самих зданий вдоль проспекта чередовались с высокими металлическими ограждениями с наглухо запертыми воротами для транспорта. Когда начинался обстрел, я всегда старалась идти на максимально близком расстоянии от их стен и оград в надежде, что именно они защитят меня от осколков.
Однажды, когда я, возвращаясь домой, прошла уже треть пути, начался сильный обстрел, и я увидела, как люди и с моей, и с противоположной стороны проспекта кинулись в подъезд дома, стоящего напротив того места, где находилась я. Поведение толпы всегда оказывает сильное воздействие на психику отдельного человека. У меня возникло почти непреодолимое желание броситься вслед за ними и тоже заскочить в этот подъезд. Но остановило честное слово, которое я дала маме – ни при какой, даже чрезвычайной, ситуации во время обстрела не переходить на нечётную сторону проспекта. И я мелкой трусцой, переходя с быстрого шага на бег и с бега на быстрый шаг, направилась по чётной стороне в сторону дома. Поздно вечером мама, вернувшаяся с работы, рассказала мне, что один из немецких шрапнельных снарядов разорвался перед самым входом в тот подъезд, и основная масса осколков пошла в сторону дома. В результате среди людей, спрятавшихся в этом подъезде, несколько человек было убито и почти все остальные ранены.
В нашем классе учились девочки, как оставшиеся жить в городе с кем-то из родителей, чаще с мамой (как я), реже с папой (как Неля Поразинская), так и приходившие в школу из детского дома, в котором они оказались потому, что их родители были на фронте или погибли. После трех утренних уроков у нас была почти часовая большая перемена, когда нас кормили обедом. Он запомнился мне таким, на первое — суп из хряпы с растительным маслом, на второе — соевые шроты. В тёплое время у нас ещё оставалось время походить по саду, так как школьный двор не был полностью от него изолирован. Учитывая то, что все наши родители работали, а рабочий день был ненормированным и мог закончиться в любое время, даже очень поздно вечером, большинство учениц оставалось в школе на продлённом дне, часов до шести вечера. Перед уходом мы получали кружку соевого молока. Быстро выполнив домашнее задание, мы, чтобы не скучать, устраивали театрализованные представления – читали стихи, разыгрывали маленькие пьески. Главной актрисой в этом случае была Ира Ильина. Раз в неделю кто-нибудь из нас, получив от классного руководителя блокнот агитатора и прочитав его, делал по окончании уроков сообщения о последних событиях на фронте и в тылу. Мне досталось рассказать о гибели Молодой гвардии и об Олеге Кошевом. В этот вечер в районе отключили электричество, я делала своё сообщение в полной темноте и очень боялась перепутать имена и фамилии молодогвардейцев.
В середине сентября в жилых домах, где до этого по-прежнему горели только коптилки, наконец-то загорелись электрические лампочки. Меня это очень обрадовало, так как раньше, если я не успевала сделать уроки в школе на продлённом дне, мне приходилось делать их либо при коптилке дома, либо, если мама дежурила в конторе, идти делать уроки к ней, так как в конторе почти всегда было электричество.
Зимой в школе было прохладно, работала только своя котельная, а дров было мало. В школе было мало света, вне классов горели только редкие, одна-две на длинный коридор, лампочки. Электричество приходилось экономить. В тот учебный год в школе еще обитало много огромных крыс. Они, когда мы выбегали из класса по звонку на перемену, бежали при виде нас вдоль стенок по коридору, прятались за унитазами в уборных, при наших попытках отпугнуть их, не бежали, а бросались на нас, стараясь укусить нас за ноги.
В начале октября начал работать водопровод, а в середине месяца был последний налёт немецких самолётов на город. Однако регулярные обстрелы города продолжались по-прежнему. В конце октября для школы начали привозить дрова, тонкие брёвнышки с грузовика скидывали на школьный двор, а нам предстояло их распилить и перенести в подвал, где находилась котельная школы. В один из таких дней в нашем классе было только четыре урока, и мы первыми вышли во двор, начали пилить и носить дрова. После пятого урока на эту работу вышел другой класс, а мы все ушли. Именно этот класс накрыло первым залпом немецкой батареи. Одна девочка была убита сразу, несколько других ранило, главным образом легко. Бывают такие трагические случайности или закономерности. За месяц до этого у погибшей девочки осколками разорвавшегося на заводе снаряда были убиты и мама, и отец. Её не стали оформлять в детский дом, так как девочку взяла к себе, собираясь в дальнейшем её удочерить, наша классная руководительница Александра Федоровна Дворцова. Теперь погибла вся семья.
Несмотря на обстрелы и все трагические происшествия, связанные с ними, у кого-то из нас (могу только дать честное слово, что не у меня) родилась идея – не ходить домой пешком, а ездить на трамвае по Лесному проспекту. Идея была хороша тем, что наша школа была расположена к нему гораздо ближе, чем к проспекту К. Маркса, что здорово сокращало наш пешеходный путь. В годы войны по нашему городу еще продолжали ходить такие «древние» трамваи, у которых вместо дверей с обеих сторон вагона были чугунные решетки (вроде садовой калитки) высотой около метра. Ездить законным образом, покупая билеты, никто из нас и не собирался. Когда трамвай начинал отъезжать от остановки, мы бежали за ним, цеплялись за решетку и вспрыгивали на нижнюю ступеньку задней двери последнего вагона. По нашим расчетам, в случае падения мы уже не могли попасть под колеса трамвайного вагона, и должны были отделаться только синяками и шишками. Такое же относительно безопасное место для нас представляла и «колбаса» — задний выступ в нижней части вагона, участвующий в сцеплении вагонов друг с другом. «Колбаса» была хороша тем, что здесь тебе во время поездки никто не читал мораль, в отличие от твоего положения на ступеньках под решеткой, закрывающей вход в вагон. Обычно в этом случае в дверях появлялась кондуктор, которую особенно сильно возмущало то, что она видела перед собой девчонок, а не мальчишек. Но на «колбасе» при движении трамвая очень сильно трясло и, чтобы не свалиться, надо было очень крепко, до боли, держаться кончиками пальцев за любые выступы на обшивке трамвая. Мои поездки из школы домой на трамвае прекратились, когда я, стоя на выступе «колбасы», совершенно неожиданно для себя увидела идущую по панели Лесного проспекта маму. Мои руки дрогнули, и я чуть не слетела вниз. Мама повернула голову в сторону трамвая, посмотрела на него, потом отвернулась и продолжила свой путь. Когда трамвай подошел к остановке, я спрыгнула с «колбасы» и далее отправилась пешком. Вечером я ждала от мамы разнос за такую езду на трамвае, но, бывает же так, она действительно меня не увидела. Вероятно, маме просто не могло придти в голову, что я вместо того, чтобы, как положено послушному ребёнку, возвращаться домой пешком по чётной стороне проспекта К. Маркса, окажусь в это время на «колбасе» трамвая, едущего по Лесному проспекту.
Один раз в неделю мы всем классом ходили в госпиталь Военно-медицинской академии, расположенный в огромном тёмно красном здании на углу проспекта Карла Маркса и Боткинской улицы (потом это здание называли клиникой Куприянова). Там в центральном корпусе в большом помещении второго этажа по центру стояло несколько сдвинутых вместе в один длинный ряд столов, на которых лежали горы выстиранного солдатского белья. У многих рубах были отрезаны один или оба рукава, или сама рубашка была разрезана вдоль. То же самое было и с кальсонами. Это бельё снимали с раненых, стараясь как можно меньше причинять им боль. Нам выдавали швейные иглы и катушки с белыми нитками, и мы в меру своих сил и умения чинили это бельё – пришивали обратно рукава и штанины, зашивали продольные разрезы, пришивали пуговицы и тесёмки.
Примерно раз в месяц мы приходили к раненым со своими концертами. Программа концертов полностью зависела от наших возможностей – мы честно старались, кто во что был горазд. Ира Ильина в лицах читала сатирическое стихотворение «Юный Фриц», кто-то пел, кто-то даже танцевал. Закончив наше представление в одной палате с лежачими ранеными, мы шли в другую, третью, стараясь никого не забыть. Меня же наша жизнь с почти ежедневными смертями, голодом, обстрелами, но с верой в победу без всяких сомнений, вдохновляла на написание стихов. Их я и читала раненым. Эти стихи были и про убитую девочку, и про погибших от голода друзей, и про веру в солдат, лежащих сейчас в госпитале, и про ожидание победы. Они полностью выветрились из моей памяти, я даже строчки вспомнить не могу, они пришли и ушли, как пришло и ушло то время. Правда, недавно я вспомнила, что одно из стихотворений кончалось призывом: «Отомстите за нас! Отомстите за нас!». В зависимости от того, в какой палате я находилась, это стихотворение я читала по-разному. Если большинство раненых уже сидело на кровати или ходило, я заканчивала громким голосом, но если в палате многие ещё лежали, часто с закрытыми глазами, последние строчки я произносила «трагическим» шёпотом. Но в какой бы палате я не читала этот стих, после него кто-нибудь из раненых громко говорил мне: «Не беспокойся, доченька, вот как поправимся, обязательно отомстим». Потом раненые постарше звали меня: «Посиди немного со мной, у меня дочка такая же, как ты» и гладили меня по голове. Откуда-то появлялся сухарь или кусочек сахара, но мы, понимая, что раненым самим нужно всё это, чтобы быстрее поправиться, отказывались брать от них их «заначки». Несмотря на это, когда я приходила домой, нередко в моей полевой сумке оказывалось что-нибудь съестное – «дар почитателей моего творчества».
На одном из наших самодеятельных концертов присутствовал комиссар госпиталя. После концерта он спросил у меня телефон мамы. Как потом оказалось, он предложил маме собрать мои стихи с тем, чтобы опубликовать их в типографии Военно-медицинской академии. Маме было некогда заниматься моими стихами. Из-за продолжающихся обстрелов города от отдела снабжения ремстройконторы, который теперь возглавляла мама, домохозяйства непрерывно требовали строительные материалы для восстановления выбитых окон и дверей, полностью разрушенных взрывами квартир, чердаков и крыш. У меня тоже хватало всяческих занятий. К тому же, в воспоминаниях секретаря писателя о Л. Н. Толстом, которые я прочла вскоре, упоминалось высказывание Толстого о том, что в молодости стихи пишут все, и если ты можешь их не писать, то и не пиши, это просто будет означать, что ты не поэт. Я определила, что могу не писать стихи, и, следовательно, я не поэт, а это означает, что и публиковать уже написанное мне ни к чему. Собрав все бумажки со своими стихами, в один из вечеров я растопила ими печку.
Несмотря на увеличение норм выдачи продовольствия, все мы продолжали ощущать непрерывный голод. Мы росли, а белков в нашем рационе почти не было. Их недостачу пытались покрыть соевыми шротами – отжимками бобов после получения соевого масла. Наиболее запомнившаяся и воистину трагическая школьная история, случившаяся в нашем классе в первое полугодие учебного года, ярко отражает общую ситуацию того времени. Дирекция школы испытывала определенные трудности с набором педагогов по всем предметам, и у нас в сентябре еще не было уроков географии. Наконец, в октябре преподавать географию пришла дама лет пятидесяти, очень смуглая, с иссиня-черными волосами (вероятно, крашеными) и черными цыганскими глазами. При такой внешности, казалось бы, урок должен вестись с экспрессией, энергично, а может быть и весело. Но дама, которую представили нам как Софью Николаевну, проговорила текст довольно вяло и, как потом показало чтение учебника, довольно близко к его тексту. На перемене кто-то из девчонок сказал: «Правда, на ведьму здорово похожа? Глаза такие черные, что зрачков не видно, и смотрит на тебя как-то странно, мороз по коже пробирает». Что-то в ней было такое, что с первой встречи стало всех нас настораживать.
Первые несколько уроков прошли спокойно. Софу (как мы назвали ее) можно было слушать или не слушать, а вечером быстренько прочесть учебник. Трагедия начала развиваться по совершенно другой причине. Когда она вызывала нас по очереди к доске для проверки выполнения нами заданных на дом уроков, она имела привычку засовывать левую руку в карман, затем подносить ко рту что-то зажатое в кулаке и долго с хрустом и причмокиванием жевать то, что она положила из кулака в рот. Ладонь прикрывала рот и иногда меж крепко сжатых вместе пальцев проскакивали крошки какой-то еды. У нас, уже давно переваривших суп из хряпы, эти звуки вызывали буквально шоковое состояние, сопровождавшееся обильным слюнотечением. Девочка, вызванная к доске, часто теряла способность говорить, а мы, сидевшие за партами, в этот момент могли думать только об одном – что же такое она ест, если это можно жевать почти весь урок? Ее уроки, вольно или невольно, для нас превратились в часы душевных и физических пыток.
Актив класса, обсудив ситуацию, сложившуюся с преподавателем географии, решил, что дальше так продолжаться не может: «Иначе мы все скоро просто сойдем с ума на её уроках». В результате длительного обсуждения возможных в дальнейшем действий актив постановил – старосте класса сходить завтра к директору и рассказать о сложившейся у нас обстановке. На следующее утро наша староста попала на приём к директрисе, но когда она начала рассказывать о том, что волнует весь класс, директриса сказала, что не желает слушать всякие глупости (ну что можно есть в течение всего урока?!) и выпроводила её из кабинета. Мы поняли, что решать этот вопрос нам придется самим, и стали думать, что и как мы можем для этого сделать. В течение нескольких дней нами в деталях был разработан сложный план действий, с которым мы ознакомили весь остальной класс. Все девочки до единой согласились в нём участвовать. Прежде, чем приступить к осуществлению плана, мы все поклялись, что никому, ни учителям, ни родителям, ни друзьям не расскажем о том, что задумали сделать, а затем, после выполнения задуманного, и о том, что сделали. Клятву никто из нас не нарушил.
Один из уроков географии начинался сразу после большой перемены. Именно он и был выбран нами для дальнейших действий. В классном стенном шкафу на нижних полках был сложен металлолом, который мы собирали для плановой сдачи. Среди собранных предметов была и посуда: металлические тарелки, кружки и даже медный самовар. Самовар и одну наименее поврежденную тарелку с такой же кружкой мы поставили на учительский стол. На тарелку положили листы чистой белой бумаги и 23 (по числу участников преступления) куска хлеба, который мы в этот день не съели за обедом. Затем все сели за парты и стали ждать дальнейшего развития событий.
Вскоре после звонка на урок открылась дверь, и Софа из коридора вошла в класс. Сделав пару шагов к своему столу и увидев на нем самовар и тарелку, полную хлеба, она остановилась и, указывая рукой на стол, спросила нас: «Что это такое, что такое на столе?». Староста встала и спросила ее: «Софья Николаевна, я не поняла, о чем Вы спрашиваете?». «Я спрашиваю, что сейчас находится на столе!». «Классный журнал и чернильница с ручкой. А почему Вы нас об этом спрашиваете?» Софа, не доходя до стола, резко повернулась, ринулась обратно к дверям и выскочила в коридор. Далее мы осуществили хорошо отрепетированные действия. Один человек с каждой парты брал с тарелки два куска хлеба, свой и своей соседки. Второй человек с каждой парты при этом участвовал в транспортировке самовара, тарелки и кружки в стенной шкаф, при этом все три предмета сразу сверху прикрывались заранее приготовленными другими металлическими предметами. На всю операцию ушло максимум две или три минуты. Когда директриса, завуч и Софа минут через пять влетели в класс, все смирно сидели за партами и изображали подготовку к уроку. Директриса посмотрела на стол и грозно спросила: «Что такое у вас тут произошло?» и увидела на лицах всех девочек только полное недоумение. Староста встала и спросила в свою очередь: «Почему Вы нас спрашиваете? Что случилось?» Завуч тоже начала говорить: «А что у вас…», но директриса резко дернула её за руку, и они втроём, подталкивая друг друга, вышли из класса. Завуч несколько раз оглянулась. Она была значительно старше директрисы и, вероятно, впервые в своей жизни видела столько невинных физиономий за один раз. Всё это явно рождало в её душе массу подозрений. Мы же, убедившись, что вся троица спустилась на второй этаж, где была учительская, сразу же принялись за хлеб. Всё то время, которое хлеб лежал на тарелке посреди учительского стола, мы даже не смотрели в его сторону, так как есть хотели самым жутчайшим образом.
При составлении нашего плана мы предусматривали и другой вариант развития событий — Софа подойдёт к столу и поймёт, как всякий нормальный человек, что перед ней целое блюдо хлеба. И тогда мы ей скажем, что дарим этот хлеб ей с тем, чтобы она больше не ела на наших уроках. Но в это почти никто не верил. В результате получилось то, что мы предполагали с самого начала – вследствие длительного голодания у неё прогрессировали отклонения в психике, и она, увидев хлеб на столе, посчитала его своей галлюцинацией, а директриса и завуч своим поведением это подтвердили. Но самым удивительным для нас было то, что никого из нас не вызывали на допросы, которые так любила проводить директриса. Потом завуч нам сообщила, что Софу положили в больницу для лечения от последствий дистрофии, а к нам вскоре пришла другая учительница.
Наша учительница немецкого языка, Берточка, каждый свой урок начинала с немецкой поговорки, утверждавшей, что язык врага надо знать так же хорошо, как свой собственный. «Язык врага», немецкий, Берточка преподавала с большой любовью. Она очень старалась выучить нас хотя бы азам немецкого языка, но мы сопротивлялись обучению всеми возможными нам способами. Срывали или просто прогуливали уроки, отказывались выходить к доске, шумели и разговаривали во время её рассказов. Она жаловалась на нас и рыдала, мы получали двойки по поведению и тройки по языку. С нами проводили длительные беседы о необходимости изучения немецкого языка, а мы в ответ заявляли, что всех нас тошнит от этого языка, и мы ничего с собой поделать не можем. И, к слову сказать, эта реакция на немецкий язык у меня сохранилась до сих пор. При звуках грассирующей немецкой речи «шерсть поднимается дыбом», и я ничего с собой поделать не могу.
Как положено в военное время в школах прифронтового города кроме обычных общеобразовательных дисциплин преподавали и военное дело. Нашего военрука звали Ананием Абрамовичем, к нам он попал после серьёзного ранения на фронте. Под его руководством мы научились заряжать винтовку и целиться в мишень (стрелять было нечем), бросать гранату (получила отлично) и ползать по-пластунски. Когда мне на уроке по военному делу пришлось ползти, я поставила школьный рекорд, так как проползла положенное расстояние быстрее всех, ни разу не оторвав от земли голову и другую выдающуюся часть тела. Ананий даже собирался послать меня на соревнования по военному делу между школами, но они, к моей большой радости, не состоялись.
Продолжалась учёба в школе, продолжались наши еженедельные походы для починки белья в госпиталь. На продлённом дне в школе мы придумывали всё новые номера для выступлений перед ранеными. Мы с мамой каждую неделю продолжали ходить к бабушке с дедом. Бабушка жаловалась, что очень редко приходят весточки от Шурика, охраняющего дорогу по льду Ладожского озера. Виктора врачи уже выписали из госпиталя с рекомендацией полгода находиться на тыловых работах. Но он в первый же после выписки день вернулся в свою любимую пулемётную роту, где его ждали и младшие офицеры, и солдаты, встретившие его возвращение криками «Ура!».
Пулемётная рота Виктора была непрерывно в боях, после больших потерь в людском составе — на переформированиях. Обычно после очередного боя в роте оставалось не более трети состава, их возвращали на Охту, чтобы пополнить состав и успеть обучить новобранцев. В эти дни он получал возможность пару раз навестить бабушку. И снова в бой. К концу сорок третьего года «настоящих» взрослых для пополнения его роты в городе уже не было, и к нему начали поступать учащиеся девятых-десятых классов. После очередных боёв он рассказывал нам: «Команда идти в атаку, а они сидят на дне окопа и ревут в три ручья. И только когда я пригрозил, что начну их расстреливать по одному, они выскочили из окопов». Была у дяди в роте удивительная личность, лейтенант Володя. Профессиональный охотник из Сибири он исполнял в пулеметной роте роль снайпера, из обычной винтовки отстреливая немецких офицеров. При атаке Володя всегда был в первых рядах, а при отступлении — в последних, при потере до двух третей состава роты он ни разу не только не был ранен, но даже задет или поцарапан пулей или осколком. Но это вместо радости служило для него поводом для огорчений. «Нет, вы только представьте –говорил он – я вернусь домой, какая девушка поверит мне, что я всю войну был в самом пекле? Подумают, что я отсиживался в тылу, а у нас таких не уважают». Виктор смеялся: «Я тебе справку выпишу, что своими глазами видел, как немецкие пули при виде тебя в сторону сворачивают, как от заговорённого. Признайся, наверно действительно какая-нибудь деревенская бабка тебя заговорила?»
Новый 1944 год мы встречали в другой квартире. Осенью пришло письмо от тёти, в котором она сообщила нам, что военное министерство решило не возвращать Военно-медицинскую академию обратно в Ленинград, а оставить её в Кирове. Далее из письма следовало, что дядя и тётя не вернутся обратно, а тоже останутся в этом городе. В нашей семейной квартире большая тётина комната находилась между двумя нашими, и именно в эту комнату должны были вселить каких-то чужих нам людей. Мама решила, что нам надо срочно переехать в другую квартиру, чтобы наши комнаты находились рядом. Вскоре она получила разрешение переехать в квартиру на втором этаже, где от голода умерли почти все жильцы, а угловая комната была превращена в дот. К новому году проёмы окон в большой комнате были очищены от кирпичей, в них были вставлены остеклённые рамы, и мы отпраздновали два праздника — Новый год и новоселье.
Новый 1944 год мы встречали в тесном кругу, вчетвером, я с мамой и Татьяна Ефимовна и Гариком. На этот раз у нас на столе вместе с отварной картошкой и кислой капустой были американские мясные консервы, которые народ прозвал «Улыбка Рузвельта», а также кусочки шоколада к чаю. На консервной банке была наклейка с фотографией молодого мужчины с улыбкой в 32 зуба, от уха до уха, а в самой банке было мясо в виде очень мелко смолотого колбасного фарша ярко розового цвета. И цвет, и вкус этих консервов сильно отличались от наших мясных консервов и были для нас непривычными. Первое время многие думали, что к мясу просто добавлена какая-то неядовитая краска, и только значительно позже мы узнали про селитру. В отличие от мясных консервов всем очень понравился американский шоколад. Он лежал на прилавках магазинов в виде больших «кирпичей» (примерно, 40х25х15 см), от которых продавщица острым топориком отрубала куски. Цвет шоколада был тёмно коричневым, почти чёрным. Шоколад под ударами топорика раскалывался на остроугольные куски, которые нам взвешивали по сахарным талонам, но сам шоколад был не очень сладким. Вероятно, это было сырьё, поставляемое на кондитерские фабрики для изготовления конфет и шоколадок. Встречая этот новый год, мы за столом сидели очень недолго, спать легли почти сразу же после 12-ти, так как весь день выносили из комнат строительный мусор и приводили их в порядок, в результате очень устали.
Первого января мы проснулись от непрерывного грохота разрывов снарядов. Немцы долго и упорно, массировано, обстреливали город, район за районом. Весь день стрельба продолжалась такая, как будто немцы решили стереть наш город с лица земли. Меня и Гарика опять посадили в квартиру окнами во двор. У нас были школьные каникулы, и мы снова взялись за поочерёдное чтение вслух романов Дюма и повестей Майн Рида. К сожалению, каникулы пролетели очень быстро, а мой день рождения 11-го января теперь приходился на первый день учёбы после каникул. Так что отпраздновали мы его с мамой вдвоём, поздно вечером, после маминого возвращения с работы.
Двадцать седьмого января день в школе прошёл как обычно, но когда я вместе с двумя девочками из моего класса шла домой и мы вышли на проспект Карла Маркса, началась массированная стрельба из орудий всех калибров, пушки стреляли и басом, и с визгом. Как в прошлогоднем январе воздух начал дрожать от стрельбы так, что как музыка пронизывал звуками выстрелов и разрывов всё тело, начинало казаться, что слышишь не только ушами, но и каждой клеточкой своего тела. Длительное время стрельба доносилась со всех сторон города. Потом выстрелы смолкли, и в воздухе повисло тревожное ощущение неизвестности происшедшего. На следующий день мы узнали, что блокада нашего города снята, её больше не существует.
К сожалению, наступление наших войск, несмотря на мощнейшую артиллерийскую подготовку, сопровождалось большими людскими потерями. Это коснулось и нашей семьи. В конце января бабушка получила письмо о Шурике от его взводного: «Ваш сын Александр Иванович Корсаков был ранен в бою и отправлен мною на санитарной машине в ближайший полевой госпиталь». После месяца молчания и бабушка, и мама начали его разыскивать. В ответе на запрос в войсковую часть, где служил Шурик, бабушке ответили, что у них нет никаких сведений о Шурике, а взводный, написавший письмо, к этому времени был убит. В итоге мы так и не смогли узнать, где именно был ранен Шурик и куда его отправили на санитарной машине. Многолетние поиски его после войны так и не привели к разгадке его исчезновения. Шурик исчез, по документам «пропал без вести», как пропали на своей родной земле многие тысячи других.
После каждого осмотра школьного или поликлинического врача в моей карточке появлялись записи о плохой работе моего сердца вследствие дистрофии миокарда. Дошло дело до того, что после одного из осмотров мне даже не рекомендовали ходить по солнечной стороне улицы, а также запретили любые физические нагрузки. Мама была в панике и написала отчаянное письмо дяде. В ответ дядя посоветовал: во-первых, плюнуть на эти рекомендации, продолжать бывать на солнце и заниматься посильным физическим трудом, и, во-вторых, начать ежедневные пешие прогулки, с каждым днём увеличивая пройденное расстояние.
Следуя советам дяди, я начала каждый день в зависимости от погоды совершать прогулку пешком или на лыжах, длиной в несколько километров. В будние дни я после школы ежедневно проходила около пяти километров, в выходной – около десяти. Зимой вместе с Музой сразу после школы, забросив домой полевую сумку с тетрадями и взяв лыжи, я скатывалась с берега на лёд Невы. Большинство предприятий ещё не вернулось в город, вода в Неве была чистой, толщина льда превышала метр, когда его выпиливали, он был прозрачным и светло голубым. Кататься можно было спокойно, не опасаясь того, что где-нибудь провалишься под лёд. В будние дни мы проделывали путь от моста Свободы к Литейному мосту, потом вдоль морского канала Невы под Троицкий мост и обратно. По выходным дням мы удлиняли путь и делали дугу вокруг устоев уже Дворцового моста. Перед мостами мы максимально разгонялись, чтобы как можно быстрее проскочить под ними. Прозрачный лёд под мостом обычно не был покрыт снегом, лыжи по нему гремели и скрежетали, а мы видели под собой стремительно текущую воду с пузырями воздуха. Эти ежедневные прогулки сыграли свою роль – наши сердца понемногу окрепли.
Несмотря на то, что Муза училась уже в шестом классе и у неё появилась новая подруга, Алла, а я отстала от неё и была только в пятом, в школу мы обычно ходили вместе. В отличие от меня Муза боялась контрольных работ, особенно по физике и по математике. В таких случаях, как только мы выходили из подъезда, она начинала уговаривать меня прогулять уроки этого дня. И хотя я не была инициатором прогулов, но обычно быстро соглашалась, прекрасно понимая, что прогуливать уроки целый день в одиночку безумно трудно. После моего согласия поддержать подружку, решался вопрос, где мы будем находиться всё это время. Я запомнила два своих прогула, зимний и летний.
Зимой, когда на улице был мороз и дул сильный ветер, мы решили пойти в кино. Денег у нас было «кот наплакал», если бы мы поехали на Невский на трамвае – нам не хватило бы на билеты в кино. Было решено идти до кинотеатра пешком. Вторая трудность заключалась в том, что на утренних фильмах инспекторы из РОНО регулярно проверяли законность посещения учениками кинотеатров. В этом случае нас вдохновляло то, что во многих школах ребята учились и во вторую смену, утром были свободны и вполне законно могли в это время посещать кинотеатр. От других прогульщиков нам было известно, что в первую очередь проверяющие обращали внимание на наличие у малолетнего зрителя школьного портфеля. Портфель был только у Музы, а я ходила в школу, а потом и в университет с полевой сумкой, подаренной мне Виктором. Место, где Музе можно было оставить портфель, мы определили сразу, как только вышли на невский лед. Почти на середине Невы под ярким зимним солнцем блестели полупрозрачные метровые кубы льда, заготовленные Хладокомбинатом. Между кубами были промежутки, шириной в одну-две ладони. В один из них мы засунули портфель и присыпали его снегом. В кинотеатре «Октябрь» шла какая-то комедия, на которую мы и купили билеты, утром они были очень дешевые. В фойе перед сеансом расхаживал какой-то, на наш взгляд подозрительный, мужчина, который, увидев двух мальчишек с портфелями, направился к ним. Но те быстро сбежали в уборную, мужчина за ними не последовал. Несколько раз он взглянул в нашу сторону, но увидел двух примерных девочек, о чём-то весело болтавших, поэтому к нам он не подошел. А Муза, весело улыбаясь, в это время говорила мне: «Запомни, мы с тобой из шестого В класса, не забудь, что мы учимся во вторую смену».
Фильм закончился, до конца уроков оставалось еще почти два часа, и мы медленно, нога за ногу, побрели по Литейному проспекту в сторону дома. Но когда мы дошли до Невы и посмотрели в сторону дома, Муза вдруг издала отчаянный вопль, показывая рукой на кубы льда. Рядом с ними стояли съехавшие на лед две машины – грузовик и небольшой подъёмный кран. Рабочие обвязывали куб тросом, кран подхватывал петлю, поднимал куб и переносил его в кузов грузовика. Мы помчались туда и увидели, что рабочие увозят лёд, о радость! не с той стороны, где мы оставили портфель, а с другой. Наш портфель как стоял между кубов, так и стоит. Когда мы его вытащили, рабочие, обвязывающие очередной куб льда, сразу догадались: «Прогуляли уроки? И не стыдно?», но мы были так счастливы, что с портфелем ничего не случилось, что уже никто не мог испортить нам настроение.
Значительно забавнее оказался наш апрельский прогул. Он был согласован нами накануне, поэтому портфель и сумка были оставлены дома. Денег на кино у нас не было, и поэтому мы решили идти к Петропавловской крепости и вдоволь надышаться свежим весенним воздухом. Вход в саму крепость для посторонних был во время войны закрыт, там работали секретные лаборатории. Поэтому мы прошли по Александровскому парку почти до Биржевого моста и через Кронверкский мостик перешли в небольшой сад перед Петропавловской крепостью. Светило очень яркое весеннее солнце, по Неве плыл белоснежный ладожский лед. Мы стали искать место, на котором можно было бы сидеть, скамеек в этом саду не было. Я выбрала иву. Её ствол сначала шел вертикально, но где-то в метре от земли стал параллельным ей, а потом вновь устремился вверх плотным букетом параллельных друг другу веток. Я устроилась на горизонтальном участке ствола, как на скамейке, и то читала книгу, то любовалась Невой. Ветра в этот день не было, вода была зеркально гладкой, и четкие отражения в ней дворцов и домов, стоящих на Дворцовой набережной, искажались только плывущими льдинами. Отсидев положенное для уроков время, мы вернулись домой. Я позвонила своим одноклассницам, чтобы узнать домашние задания и обсудить последние происшествия, и села за уроки. Пришла мама, и я стала накрывать на стол, чтобы нам вместе пообедать. Вдруг мама стала очень пристально меня разглядывать и потом сказала: «Что это с тобой? Встань, погляди на себя в зеркало» Я подошла к трюмо и увидела, что правая половина моего лица ярко-красного цвета, в то время как левая – обычного, без румянца, которого у меня никогда и не бывало. Я стала очень похожей на циркового клоуна – « смейся, паяц». Пришлось рассказать, что я целый день в одном положении отсидела на солнце. «Интересно, что же ты завтра скажешь в школе?» «Я думаю, что меня никто и ни о чём не спросит». «Трудно поверить, что увидев такую боевую раскраску на твоём лице, тебе никто не задаст вопросы». «Тогда скажу, что у меня мигрень». «Лучше объясни мне, что тебя вместо уроков понесло к Петропавловке?». «У Музы была контрольная, она не подготовилась…». «А ты-то тут причём? Объясни мне, пожалуйста». «Я пошла вместе с ней за компанию, ну сама подумай, как бы она целый день была одна?». «Я бы тебе сказала, что бывает за компанию. Очень прошу тебя, больше таких глупостей не делай, ни одна, ни за компанию». На следующий день в школе все, и учителя, и одноклассники, увидев мою раскрашенную физиономию, спрашивали меня, что такое с моим лицом. Всех вполне удовлетворял ответ, что у меня сильная мигрень, кто-то из учителей даже посоветовал мне пойти домой и хорошенько отдохнуть. Но я честно отсидела все уроки.
Незадолго до окончания учебного года, возвращаясь с Музой из школы, мы повстречали у нашего дома девочку, вместе с которой учились в одном классе Образцовой школы Петроградского района. Втроём мы пришли, чтобы поболтать и обменяться последними новостями, в нашу квартиру. Из трёх окон нашей угловой комнаты два окна смотрели на Большую Невку, на противоположном берегу которой в полной красе стояло здание нашей бывшей школы, отданное теперь Нахимовскому училищу. Мы с горестью какое-то время просто смотрели на нашу школу, затем какая-то зловредная муха нас укусила, и нам ужасно захотелось хоть чем-нибудь насолить этим противным нахимовцам, лишившим нас нашей школы с такими необычными белыми партами, с лестницей, полной цветов, и с бюстом Петра Великого, на голову которого надо было каждой весной выливать чернила.
Была вторая половина дня, солнце переместилось на запад и клонилось к горизонту. Оно светило в наши окна, находясь как раз над крышами Нахимовского училища. А у нас в простенке между этих двух окон стояло огромное, до потолка, старинное трюмо. Кому пришла идея пускать зайчики на окна училища, я уже не помню, вполне возможно, что мне. Мы втроем развернули трюмо зеркалом к открытому настежь окну и получили, нет, не зайчика, а огромного зайца. Яркий сноп света ударил сразу по всем этажам, а когда мы чуть-чуть поворачивали трюмо, сноп света перемещался слева направо или справа налево вдоль всего здания. Ответная реакция была мгновенной – все окна распахнулись и их проёмы заполнились головами мальчишек. Минут через пять мы поставили трюмо на место, но в училище продолжалось бурное волнение. Нам было видно, что восстановить дисциплину воспитателям удавалось с большим трудом, пока они одних мальчишек оттаскивали от окон, другие с любопытством повисали на них вновь. Уроки явно были сорваны, на душе у меня возникло тревожное чувство. Вероятно, появилось оно и у моих «подельников» — они мгновенно сбежали домой. Следовало признать, что эффект, достигнутый нами, значительно превышал ожидаемый.
После восьми вечера с работы вернулась мама, было видно, что она очень устала. Почти сразу, как она вошла в комнату, она протянула мне лист бумаги, сложенный пополам, на котором крупным размашистым почерком было написано: «Товарищу В. И. Исси», и сказала: «Прочти!». Я развернула лист и прочла такое послание: «Товарищ Исси, сегодня Ваша дочь сорвала уроки во всех классах Нахимовского училища, окна которых выходят на Неву. Примите к ней меры, если это повторится – Вас ждёт административное взыскание и денежный штраф. Дежурный по училищу, мичман такой-то». «Тебе очень нужно, чтобы меня оштрафовали? У нас что, денег – куры не клюют? Чего ты хотела этим добиться?» «Нам обидно стало, что такую школу у нас отобрали. Хотелось дать им за это пощёчину» «Глупость какая, по-моему, пощёчину сегодня получила ты. И на будущее запомни, что бороться надо не такими методами и не по пустякам. А ты зайчики пускаешь, чтобы школу вернуть, детский сад какой-то» «А мичман в этом письме две ошибки сделал!» «Вот этим теперь и утешайся!» На этом выговор мне и закончился. Я отправилась спать, сознавая, что в душе испытываю не раскаяние от содеянного, а огромное удовольствие. Всё-таки моя пощёчина была весомее.
В конце мая я неожиданно получила подарок от дедушки. Кто-то из бывших рабочих его бригады, живущий в пригороде, принёс ему крохотного крольчонка в серой шубке, и дедушка подарил его мне. К моим обязанностям добавилась ещё одна – добыча сочной свежей травы, которую кролик поглощал без передышки. Я назвала его Филей, и стоило мне войти в квартиру с нарванной в саду травой и позвать его, как раздавался топот маленьких ножек, и он мчался ко мне по коридору.
Как только растаял снег и ночная температура стала положительной, началась подготовка к огородному сезону. Одной из главных моих забот стало проращивание картофельных клубней, чтобы из каждого клубня получить как можно больше растений. Рассаду капусты выращивали и продавали пригородные хозяйства. Семена огурцов, тыкв, редиски и укропа у нас были свои.
В отличие от огорода Петровича, который был далеко от нашего дома, но добраться до него было относительно легко, новый огород был не только значительно дальше, но и добираться до него было крайне неудобно. Нам приходилось либо идти пешком от дома до Гренадерского моста и там садиться на трамвай, который довозил нас до Скобелевского проспекта, либо идти на Нижегородскую улицу и ехать оттуда. На дорогу уходило очень много времени, так как трамваи ходили редко. В рабочие дни мама сутра до ночи пропадала в своём отделе снабжения – восстановление жилого фонда нуждалось в притоке разнообразных строительных материалов. Кирпичи, доски, цемент, краски, всё это надо было где-то раздобыть, договориться о выделении квоты на Выборгский район, перевезти, а затем распределить между домохозяйствами так, чтобы при этом не нажить себе смертельных врагов. В помещении церкви (подворье Введено-Оятского монастыря), расположенной за Бабуриным переулком, отливали из асбеста по формам сложные лепные потолочные украшения, идущие на реставрацию исторических зданий. Мама уходила на работу, когда я ещё спала, и нередко приходила, когда я уже засыпала.. Её жизнь осложнялась тем, что начиная с мая месяца было необходимо вплотную заняться огородными делами – посадкой картошки и рассады капусты, посевом семян редиса и укропа. Каждый выходной день нам приходилось ездить на огород, чтобы поливать капусту, окучивать картошку. Мама просто валилась с ног, но на её заявлениях об увольнении по собственному желанию из ремстройконторы, начальство каждый раз ставило резолюцию «отказать».
В один из жарких июньских дней город встречал партизан Ленинградской области. Нескончаемой колонной они шли по ленинградским улицам. Мы с Музой пошли встречать ту колонну, которая шла с Петроградской стороны на Выборгскую через наш мост Свободы. Длинная колонна была представлена, в основном, мужчинами всех возрастов, от подростков до седых и бородатых стариков, женщин среди них было очень мало. На голове у многих партизан были папахи, как у Чапаева, с красной звездой и красной ленточкой наискосок. Один из стариков обратился к нам: «Девочки, принесли бы вы нам водички. Мы уже давно идем, а сегодня такая жара, что у всех нас горло пересохло». В хозяйственном ящике Полины Ивановны, стоявшем под замком на середине моста, мы раздобыли два ведра, несколько эмалированных кружек и принесли воду на мост. К нам сразу же встала очередь из желающих напиться. Колонна шла мимо нас около часа, и мы с Музой всё носили и носили им воду. Когда широкие ряды в конце колонны начали редеть, к нам вдруг бросился один из подростков. Он схватил нас обеих в охапку и начал поочередно целовать, приговаривая: «Ну, девки, ну, дорогие, здравствуйте! Как хорошо, что вы живы, живы, живы!». Сначала нас покоробило такое бесцеремонное обращение с нами, но выпутавшись из объятий паренька, мы увидели своего одноклассника, Вовку Генералова, из Образцовой школы. И, узнав, в свою очередь бросились его обнимать. Он рассказал нам, что ещё до начала войны родители отправили его на Псковщину, где в деревне у бабушки были дом и огород. А когда немцы захватили эти места, он вместе с остальными жителями деревни ушел в партизаны. «Настрелялся на всю жизнь – сообщил он нам – немцев набил множество, даже медаль «За отвагу» получил!». Потом, увидев, что через мост идут уже последние ряды, попрощался с нами и бросился вслед за ними, так как у них по программе были ещё какие-то очень важные встречи и мероприятия. Мы вернулись домой в хорошем настроении, нас очень порадовала встреча с Вовкой, хотя мы с ним и не дружили до войны, но были очень рады за него – побывал в таких переделках и остался жив!
В конце июня мама узнала, что где-то в пригороде Ленинграда уже организован пионерский лагерь, на две смены которого в июле и августе уже начали записывать ребят. Чтобы оформить для меня путёвку в лагерь, надо было получить разрешение и направление не то в Гороно, не то в Горздравотделе. Нам пришлось поехать на Невский проспект, где в угловом доме, выходящем также на набережную Фонтанки, это учреждение и находилось. В большом полутёмном зале стояла длинная очередь из родителей с детьми на собеседование, в результате которого большинство почему-то получало отказ. В это время, стоя у окна, я разговорилась с девочкой моего возраста, у нас с ней оказалось много общих интересов. Её мама стояла в очереди перед моей мамой. Они тоже познакомились. Оказалось, что мама моей новой знакомой – жена какого-то крупного деятеля не то в горисполкоме, не то в горкоме, и имеет на руках ходатайство об устройстве дочери в пионерлагерь. Моей маме она сказала: «Держитесь рядом со мной, моей дочери понравилась ваша девочка, и я сделаю всё, чтобы они поехали вместе». Потом мама рассказала мне, что когда они вошли в кабинет, где разбирались дела, и подали документы членам комиссии, решавшей вопрос, кому ехать, а кому не ехать в пионерлагерь, эта женщина подала им вместе с документами своей девочки ходатайство горисполкома. Кивнув в сторону моей мамы, она сказала: «Девочка этой дамы едет вместе с моей дочерью», и гордо «выплыла» прочь. Маме все мои документы оформили без всяких дополнительных вопросов. И я поехала в пионерлагерь вместе с Изольдой, так звали эту девочку. «А папа зовет меня Льдинкой, ведь я «изо льда», рассказывала она мне. А я смотрела в ее светлые зеленовато-голубые глаза и думала, что они тоже были причиной ее домашнего имени.
В лагерь нас везли в кузове грузовой машины, где были поставлены скамейки, а борта кузова были приподняты заборчиком или перилами, чтобы мы при езде по тряской сильно разбитой дороге не вывалились из машины. Сам лагерь находился километрах в четырёх-пяти от станции Всеволожская, слева от железнодорожных путей. В одном доме размещалась кухня, столовая и лагерное начальство, в домике рядом – спальня для девочек. Спальня для мальчиков была примерно в километре от столовой, если идти от неё прямиком через лес. Никаких воспоминаний о кормёжке в лагере у меня не осталось, из чего я могу сделать два вывода: нас кормили досыта, но ничего вкусного не было. Еженедельно нас очень тщательно осматривал врач. Нас взвешивали, прослушивали, проверяли на педикулёз.
В первый же день нас познакомили с нашим пионервожатым, очень высоким и худеньким пареньком лет восемнадцати по имени Иннокентий, или Кеша. На второй день, увидев в дверях столовой котёнка (большая редкость по тем временам), мы назвали его в честь нашего вожатого Кешкой. Распорядок дня для нас был щадящим. После завтрака нам предлагали пойти погулять и поиграть в мяч, после обеда мы спали досыта, после ужина забирались с ногами на кровати и рассказывали друг другу всякие истории или пересказывали прочитанные книги. В нашей группе была четырнадцатилетняя Сонечка, а ее братишка Лёвушка, которому было лет десять-двенадцать, находился в группе мальчиков. Каждое утро перед завтраком они бросались друг к другу, как будто не виделись долгое время.
Через несколько дней, когда мы закончили завтракать и вышли на улицу, к нам подлетели мальчишки. Один из них, Юрка, сделал круглые глаза и шёпотом, оглядываясь по сторонам, сообщил нам, что за нашим лагерем находится большое минное поле с противотанковыми минами. «Пошли смотреть — предложил он – там такие громадные мины стоят, зуб даю, что вы таких и не видели!» И мы все наперегонки помчались на минное поле. Интересно же, тем более, что в самом городе все видели и бомбы, и снаряды, а мин не видел никто. Добежали. Перед нами был участок высохшего болота с кочками, поросшими кустами голубики и черники. На некоторых кочках торчали чахлые ёлочки или сосенки. А на самих кочках или между ними были видны большие темно-зелёные тарелки с гофрированными боками – противотанковые мины. Второй мальчишка, Серёжка, встал на высокую кочку, картинно поставил одну ногу на мину и учительским тоном произнёс: «Эти мины взрываются только под тяжестью танка, а если по ним идёт человек – мина под ним не взрывается. Сейчас покажу! Смотрите!» Он спрыгнул с кочки, на которой стоял, разбежался и вскочил на соседнюю мину. «Видите — закричал он – она даже не шевельнулась!Кто храбрый, за мной!» Скакать по противотанковым минам моментально ринулись почти все, кто добежал до болота. А я вспомнила раненых и искалеченных, которых приводили или приносили к нам в жилищную контору, и закричала: «Ребята! Вернитесь, не прыгайте по минам! Вы плохо физику знаете! От удара при прыжке они могут взорваться!» Многие остановились и обернулись ко мне. Пришлось продолжить: «Новые мины может и не взорвутся, когда на них наступит человек, а эти уже три года лежат в болоте и проржавели. Посмотрите сами, сколько на них ржавчины! Удар ноги прыгающего человека раз в 10 сильнее, чем идущего. Прыгнете на взрыватель, и взорвется мина. Если хотите в фарш превратиться – прыгайте». Честное слово, я не думала, что меня станет кто-нибудь слушать, но все после моих воплей стали уходить с минного поля, кто поспешно, а кто медленно и с достоинством. Серёжка негодовал: «Не слушайте вы её, она просто трусиха! Я же прыгал и не взорвался!» Но, несмотря на его старания вернуть компанию назад, поле опустело, все направились к лагерю. Кто-то, вероятно в своё оправдание, крикнул ему — «Нам давно пора на обед, пошли!» Вопрос был исчерпан. Больше на минное поле никто не ходил.
С другой стороны лагеря, через дорогу, была большая поляна, на которой на изрядном расстоянии друг от друга росло несколько высоких сосен. Так как вокруг этих сосен не было других деревьев, у них не отмирали, а сохранялись нижние ветки почти от самой земли. Влезть на верхушку таких деревьев оказалось проще простого, так как ветки сосен отходят от ствола почти под прямым углом, образуя естественную лестницу. Добравшись почти до самой вершины, надо было найти две ветви, отходящие от ствола на одном уровне, перекинуть через них ноги и крепко обнять сосну. Сидеть в таком положении практически можно было очень долго. С этого наблюдательного пункта была видна наша столовая, песчаная дорога к лагерю и 2-3 дома соседней деревни. В ветреный день верхушка сосны начинала раскачиваться наподобие качелей. Я от раскачивания сосны получала большое удовольствие, представляя себя в море на паруснике. У Изольды через полчаса стала сильно кружиться голова и её начало тошнить. Она быстренько спустилась с сосны и отправилась в лагерь. А мы пятеро, кого не укачивало на соснах, как только начинал дуть сильный ветер, бежали к соснам и забирались как можно выше. Однажды в сильный ветер мы просидели на соснах от завтрака до обеда, то есть не менее трёх-четырёх часов. Когда подошло время обеда, мы спустились и отправились в лагерь. Наша походка в результате длительного качания была как у моряков, вернувшихся из дальнего плавания – нас шатало во все стороны, и, чтобы не шлёпнуться на землю, мы по дороге в столовую сначала держались за забор, потом при подходе к столовой — за перила крыльца. Стоило нам выпустить из рук точку опоры, и нас вело в любую сторону. Кто-то, как часто бывает в нашей жизни, немедленно сообщил о нашей необычной походке кому положено.
Откуда-то появилось всё лагерное начальство, врач и медсестра, нас всех выловили и отправили в медицинский кабинет. Вначале нас спросили, что мы пили. Мы честно сообщили, что пили за завтраком чай, а за обедом компот. Потом осторожно осведомились, не принимали ли мы какие-нибудь таблетки. Нет, не принимали. Нас обнюхали, но от нас спиртным или чем-то другим подозрительным не пахло. Следов уколов на нас тоже не было обнаружено. Мы все старательно и конкретно отвечали на задаваемые нам вопросы, однако наши ответы начальству и врачу не прояснили происходящего с нами. Просто никто из них не догадался нас прямо спросить, отчего у вас, дорогие ребята, такая походка? А не качались ли вы на верхушках сосен при сильном ветре? В результате нас отпустили, а так как все следующие дни были безветренными, мы к соснам не пошли, а сами ходили, прямо и не качаясь, как все остальные ребята.
Через несколько дней опять подул сильный штормовой ветер, и мы все пятеро ринулись к нашим соснам. Но не прошло и десяти минут нашего сидения на верхушках, как мы увидели на дороге идущих в нашу сторону дежурного преподавателя, врача и медсестру. Стоя между сосен, они прокричали нам приказ начальника лагеря немедленно слезть вниз и идти в его кабинет для разбирательства нашего безобразного поведения. Пока мы спускались с высоты, они стояли внизу для «страховки», но никто из нас и не собирался падать.
Наше разбирательство с начальством происходило бурно. Крику было много с обеих сторон. «А вы подумали, что будет с вами, если вы упадете с такой высоты?» — кричали они. «А почему в лагере ничего нет, даже мячей? Или качелей? Мы не можем целый день сидеть, уставившись в одну точку!» — кричали мы. Закончилось всё достаточно мирно — с нас взяли честное слово, что на сосны мы больше не полезем, и предупредили, что в противном случае будем отправлены домой сразу же, немедленно. Нам пришлось подчиниться. А жаль. Спустя два года на сухогрузе «Чернигов» рейсом Констанца-Одесса моя семья, возвращаясь на родину, попала в девятибалльный шторм. Я стояла на палубе, наблюдая, как нос корабля разрезает высокую волну, и она двумя высокими прозрачными крыльями огибает борта до самой кормы. Проходящий мимо меня знаменитый одесский потомственный моряк, капитан Котляров спросил: «Ну как, не страшно тебе, не укачивает тебя?» Я отрицательно помотала головой. «Была бы парнем, дал рекомендацию в морское училище. А сейчас, марш в каюту, пока не смыло с палубы!» Так что тренировка на соснах явно дала свои положительные результаты.
Я предполагаю, что несколько дней начальство лагеря ломало голову над тем, чем нас занять, пока мы не изобрели для своих занятий ещё что-нибудь более отчаянное. Выход был найден – наш вожатый Кеша вдруг собрал нас всех и напомнил нам, что здесь, в пионерлагере, все мы — пионеры. Затем он спросил, есть ли среди нас тимуровцы. Оказалось, что почти все мы были членами тимуровских команд, а те, кто ещё не был тимуровцем, не имел ничего против того, чтобы стать членом такого коллектива. Один-два раза в неделю наш вожатый стал нам сообщать, что в соседней с лагерем деревне он нашёл тётю Наташу (или тётю Дашу, или бабушку Лену), у которой сыновья или внуки на фронте, а ей привезли дрова, которые надо перенести в сарай, или распилить, или расколоть, или уложить. И мы весело мчались за ним, чтобы выполнить эту работу. Конечно, сделать всё, что было нужно, мы почти никогда не успевали. Обычно работали от завтрака до обеда, но когда мы уходили, нас так горячо благодарили, так искренне желали нам здоровья и счастья, что мы сразу, в тот же момент, ощущали себя счастливыми. Не помню ни одного случая, чтобы кто-то из нас сказал: «А зачем нам это надо?» или отказался бы пойти вместе со всеми. Представляю, что сказали бы по этому поводу многие современные дети.
Всё было хорошо, но мне ещё предстояло доказать мальчишкам, что я не трус, как это любил утверждать Серёжка после нашей прогулки на минное поле. По вечерам наш вожатый нередко рассказывал нам страшные истории про привидения, гуляющие по ночам вокруг лагеря. Я думаю, что основной причиной выбора темы для таких рассказов было желание Кеши заставить нас не высовывать нос поздним вечером на улицу. С подъёмом рассказав очередную страшилку, Иннокентий говорил нам: — «Всё, теперь спать, гашу свет» и уходил. Как-то после его ухода я сказала: «Привидений не бывает. Я могу это доказать и ночью пройти через лес до мальчишек и обратно. Если привидения есть – они мне встретятся».
Через несколько дней вопрос о моем ночном походе был согласован с мальчишками. Они должны были дождаться моего прихода к ним, чтобы потом подтвердить, что я прошла ночью одна через лес. Прямой тропинки там не было. Между высоких сосен на кочках росли кустики ягодников и болиголова, они и представляли самую большую трудность при ночном переходе. Главным моим условием ночного похода была ясная ночь с чистым от облаков небом. При поездках всей семьёй в лес за грибами или на рыбалку, папа всегда учил меня ориентироваться — днём по солнцу, ночью по звёздам и луне, поэтому я могла достаточно точно ориентироваться на местности.
После отбоя, когда все должны были лечь спать, Изольда и еще две девочки пошли провожать меня к лесу. Я посмотрела на небо и выбрала звёзды, которые весь путь туда будут у меня с левой стороны, а при моём возвращении – с правой. Было почти полнолуние, так что я видела и кочки, и кусты, не спотыкалась и не падала. Вышла я прямо на домик мальчишек, на крыльце которого сидело человек пять. Так быстро они меня не ожидали и сразу спросили, не встретила ли я привидение. Пришлось их разочаровать. Увидев среди ждавших меня мальчишек Серёжку, я сказала ему, что в следующую ночь будет его очередь идти через лес, теперь мы будем ждать его у нас. Ребята предложили мне остаться ночевать у них, так как на звезды начали наползать густые облака. Но я поняла, что успею вернуться до того, как небо затянет тучами. Попрощалась с ребятами и быстрым шагом двинулась обратно. Когда вышла из леса почти у нашего домика, девчонки тоже не ждали меня так скоро и сразу спросили, дошла ли я до мальчишек. «Пять свидетелей — похвасталась я – и ни одного привидения». На следующий день небо заволокло тучами, начал моросить дождь, и стало ясно, что ночную прогулку Серёжки придется отложить до хорошей погоды.
Но его прогулка так и не состоялась. При дождливой погоде нам всем пришлось сидеть по спальням, выходили только в столовую. Нам, девчонкам, было близко, метров 50 до столовой, а мальчишкам надо было бежать километра два по дороге, которая дугой огибала лес. Поход через лес был короче, но выбраться из него сухим было невозможно. Все по очереди пытались вспомнить старые настольные игры или выдумать какие-то развлечения, чтобы часами не смотреть в окно на затянутый косыми струями дождя пейзаж. Вдруг кто-то из девочек, сидевших у окна, сказал: «А к нам милиция!» Мы бросились к окну и увидели, что к столовой подъехала милицейская машина, милиционер прошёл в дом, затем из него сразу же выскочили начальник лагеря, врач и медсестра. Они быстро забрались в машину, машина развернулась и увезла всех. Кто-то сказал: «Похоже, у нас что-то случилось…», «Только бы не с мальчиками — сказала Соня – только бы не с мальчиками».
Прошло часа 2-3, когда машина привезла всех обратно. Вскоре к нам пришла медсестра и позвала Соню. Соня закричала: «Что с Лёвушкой? Скажите, что с Лёвушкой?» Та не ответила на вопрос и твердила ей только одно: «Пойдём, сейчас тебе всё расскажут. Пойдём» В этот день мы более Соню не увидели, её положили в лазарет. А к нам пришёл Кеша и рассказал, что скучающие от безделья мальчишки решили разобрать большой снаряд. Снаряд разорвался в руках Лёвы и Серёжки. Они погибли сразу, их просто разорвало осколками. Ещё несколько человек, стоявших за их спинами, были тяжело или легко ранены и увезены в больницу. Когда Соне сказали, что ей даже не покажут погибшего брата, она упала в глубокий обморок, из которого её еле вывели серией уколов, поддерживающих сердечную деятельность.
На следующий день приехали родители Изольды и увезли её домой. Мы обменялись телефонами и адресами и пару лет перезванивались. Потом наши отношения пошли на убыль и сошли на нет. Через несколько дней к нам вернулась Соня. Она очень изменилась. Если бы о четырнадцатилетней девочке можно было сказать: «Она постарела», это было бы самое верное определение её состояния. В её каштановых волосах появилась длинная серебряная прядь. Целыми днями она сидела, раскачиваясь, на кровати и твердила только одно: «Что я скажу папе, когда он вернётся? Ну что я ему скажу?». Нас готовили к отправке домой раньше положенного срока. Вероятно, в лагере работала какая-то комиссия, и всем было не до нас.
Я хорошо запомнила день нашей отправки домой. Светило яркое солнце, но было прохладно из-за северо-восточного ветра, самого холодного в наших условиях. За нами снова приехал грузовик, и нас начали подсаживать в его кузов. Кроме шофера в этом участвовал какой-то незнакомый нам мужчина. Каждому он говорил: «Покажи свои вещи», и только после их просмотра подавал чемодан или рюкзак хозяину. Мой маленький рюкзак, в котором была вторая смена белья и свитер на холодную погоду, он легонько встряхнул, и, не открывая его, сразу же вернул его мне. Но когда он поднял Юркин чемодан, в котором что-то загремело, его лицо изменилось. Он почти на цыпочках отошёл от нас вместе с чемоданом, осторожно поставил его на землю и открыл. Все, кто был в кузове, встали, чтобы посмотреть, что же там находится. Чемодан был полностью, как говорят «под завязку», заполнен гранатами, дополненными парочкой небольших снарядов. «У тебя что, совсем ума нет? – обратился мужчина к Юрке – твои товарищи всего несколько дней назад погибли от своей дури. А твоих гранат в чемодане хватит, чтобы убить всех, кто поедет вместе с тобой. От машины ничего не останется, а не только от вас всех». Потом он обратился к начальнику лагеря, провожавшему нас: «Чемодан я даже трогать не буду, в нём ничего, кроме боезапасов нет. Вызывайте саперов, пусть взрывают» и махнул рукой шоферу: «Увози всех подальше отсюда, глаза бы мои их не видели!».
Примерно через час-два я была дома, где меня уже ждали, так как всех родителей предупредили о нашем возвращении. И мама, и бабушка встретили меня так, как будто я вернулась с Северного полюса после длительной зимовки. Самое главное, мама приготовила к моему возвращению очень вкусный обед. Впервые с довоенного времени она сварила куриный суп, который я очень любила. По-моему, я за один раз съела две тарелки супа. Когда я спросила маму с бабушкой, почему они не едят тоже, бабушка сказала, что они с утра так проголодались, что решили поесть, не дожидаясь меня.
Вспомнив о Филе, я собралась сходить за травой. Меня удивило, что он не встретил меня, а я никак не могу его найти. Мама сказала мне, что знакомая заведующая детским садом, которую я хорошо знала, попросила маму отдать Филю ей для детсадовских ребят, так как никаких других животных у них сейчас не было. Жалко было остаться без Фили, у нас всегда в доме были животные, но и заведующую можно было понять. И я начала рассказывать маме и бабушке о своей жизни в лагере. И после отъезда бабушки домой я несколько дней подряд живописала маме свои приключения.
И только лет через пятнадцать, когда я рассказывала своему сыну сказки про разных животных, мама решилась признаться мне, что тот суп, который я ела по возвращении из пионерлагеря как куриный, был приготовлен из Фили. Крольчатина, как и курятина, светлая, по цвету они неразличимы. И мама, и бабушка боялись, что я по вкусу супа пойму, что меня кормят чем-то другим. Но за те три года блокады, в которые я ни разу не ела куриное мясо, я забыла вкус настоящей курятины, и их план удался полностью. Но мне и через 15 лет стало очень жаль Филю, и я поняла, почему мама и бабушка не смогли есть вместе со мной.
В начале августа рано утром раздался звонок, я открыла входную дверь и увидела папу. Я завизжала на всю квартиру и повисла у него на шее. На мой визг из комнаты выскочила мама, думая, что со мной случилось что-то страшное. Увидев папу, она не поверила своим глазам, он ведь ничего не написал о возможности своего приезда к нам. Оказалось, что пришёл приказ о его переводе в штаб 3-го Украинского фронта, к Ф. И. Толбухину (пока он ехал к месту назначения, этот штаб стал штабом Южной группы войск). Ему разрешили на сутки задержаться в родном городе. На следующий день ночным поездом он должен был отбыть в Москву и оттуда далее самолётом до того места, которое ему будет указано. Весь день и весь вечер прошли во взаимных рассказах. В основном мои родители рассказывали друг другу то, о чём нельзя было писать в письмах. Узнав из маминых писем, что она с большим трудом поднимает меня по утрам из постели, папа привёз мне в подарок какой-то необычный американский будильник с двумя звонками. Через короткое время после того, как закончил звонить первый звонок, а ты всё ещё не встал, начинал звонить второй звонок. Проводя испытания будильника, я поставила его на пианино, где стояла ваза с мышонком. При первых громких и резких звуках звонка мышонок подпрыгнул так высоко, что казалось, какая-то неведомая сила выбросила его из вазы на клавиатуру пианино. Он промчался по клавишам, спрыгнул на пол и исчез под диваном. Я легла на пол и пыталась увидеть его, но мышонка нигде не было. Вероятно, он нашёл щель в полу и сумел пробраться в подпол. Ближе к вечеру я не выдержала обилия впечатлений и долгого сиденья и, несмотря на очень интересные рассказы папы, рухнула в постель и крепко уснула.
Утром папа с мамой поехали в коммерческий Елисеевский магазин, купить чего-нибудь вкусненького и позвать друзей, чтобы отпраздновать встречу с папой. Заплаканная мама вернулась днём и без папы. Получилось так, что когда они выходили из магазина, папа нёс тяжёлую сумку и не увидел лейтенанта, стоявшего за углом и возглавлявшего патруль, и поэтому не отдал ему чести. Папа перед ним извинился, но ни его извинения, ни просьба мамы отпустить его, так как на встречу с семьёй ему дали только 24 часа, на лейтенанта не подействовали. Папа под конвоем был с торжеством препровожден на гауптвахту – арест на трое суток.
Уже поздно вечером раздался телефонный звонок. Звонил папа, что начальство гауптвахты, ознакомившись с его документами и срочным направлением в штаб Толбухина, отпускает его на поезд с Московского вокзала, так как далее из Москвы он должен добираться армейским самолётом. И хотя папа говорил, чтобы мама не приезжала на вокзал, мама помчалась туда и успела увидеть папу и попрощаться с ним до отхода поезда. Она также спросила папу, как ему понравились пирожные (он был сладкоежкой), которые после его ареста она купила в Елисеевском магазине и передала для него вместе со своей запиской дежурящим на гауптвахте девушкам. Увы! Выяснилось, что они и не думали передать ни записку, ни пирожные. А тогда каждое пирожное стоило четверть месячного маминого заработка, и перед возможностью получить дорогое лакомство задарма девушки не устояли. Мама же долгое время после папиного отъезда вспоминала лейтенантика, задержавшего папу, и всегда кончала такой фразой: «Какая же мать вырастила такого подлеца, который получал удовольствие от гадостей другим? Ведь видел же по документам, что папе разрешено только на сутки задержаться в Ленинграде, чтобы повидаться с семьёй, и то всё изгадил». Виктор, слушая её рассказ, прокомментировал его так: «Был бы на фронте, долго бы живым не проходил».
Как только с города была снята блокада, стали возвращаться эвакуированные ленинградцы. Многие делали это неофициально, не получив разрешения на переезд и не оформив никаких документов. Так как карточная система выдачи продовольствия в Ленинграде никем не отменялась, вернувшись в город, они какое-то время ни карточек, ни продовольствия не получали. Началось воровство. Серьёзно пострадали от этого и мы.
В один из последних дней августа мама договорилась со своим начальством о машине для перевозки нашего урожая домой. Мы должны были поехать на огород рано утром, чтобы к приезду машины в середине дня успеть выкопать картошку и срезать кочны капусты. Но когда мы приехали на огород, то увидели ужасную для нас картину. Весь огород был наспех варварски перекопан, все картофельные кусты выдернуты и крупные картофелины с них сняты. Больших кочнов капусты на огороде уже не было, а большинство средних и маленьких кочешков было раздавлено тяжелыми сапогами. Огуречные плети были растоптаны, из-под земли торчали огуречные «останки».
Мама, увидев это, схватилась за сердце и села на грядку. На соседнем участке выкапывал картошку знакомый маме по работе бригадир плотников. Увидев маму, он сказал: «Это ваш брат сегодня утром рано приехал на машине с двумя солдатами. Я его спросил, что это они так странно выкапывают картошку, а он сказал, что машину ему дали на два часа. Все собранное он отвезёт вам, а все оставшееся соберёте вы сами». Потом, посмотрев на маму и увидев ее расстроенное лицо, он добавил: «Значит, соврали и украли. Я должен был догадаться. Со своим урожаем так не поступают. Но он сказал, что вернулся из эвакуации с заводом и решил помочь вам. Он держался уверенно, я ещё подумал, хорошо, когда на свете такие братья есть, что о сёстрах заботятся. Хотите, я вам ведра два картошки отсыплю? А то я себя виноватым чувствую, что не догадался, что это воры». Мама от его картошки отказалась, сказав мне: «Давай, соберём хотя бы то, что уцелело. Машина всё равно придет, на ней и поедем домой». И мы принялись копать гряды, где был картофель. Сосед присоединился к нам и помог выкопать оставшиеся в земле картофелины. Больших картофелин были единицы, в основном попадалась мелочь размером с яйцо или чуть больше. Потом я занялась вытягиванием из земли затоптанных огуречных плетей, на которых еще висели целые огурчики, но это всё представляло собой жалкие остатки того, что несколько дней тому назад было на нашем огороде. Закончив сбор остатков (правильнее, останков) урожая, мама сказала мне: «Я больше никогда, клянусь тебе, огородом заниматься не буду. Потратить столько времени и последних сил, чтобы в результате приехавший из тыла здоровый мужик спокойно присвоил это себе? Нет, на этом мы с тобой огородные дела закончили навсегда. Всё!» Слово своё мама сдержала.
Первого сентября я пошла в шестой класс той же самой школы №105 на Бабурином переулке. Численность класса заметно увеличилась, он постепенно пополнялся вернувшимися из эвакуации девочками. Приехавшие с разных концов нашей страны девочки спокойно вливались в новый для них коллектив. Результативнее стали проходить уроки немецкого языка. То ли мы стали старше и спокойнее, то ли энтузиазм Берточки победил наше скептическое отношение к любимому ею языку.
Улучшился и «климат» школы, стало значительно теплее, благодаря регулярному отоплению помещений, стало намного светлее, так как зажглось больше электрических ламп, стало намного уютнее. К нашей всеобщей радости значительно снизилось поголовье крыс, неимоверно размножившихся в первые две блокадные зимы.
Мама с утра до позднего вечера пропадала в своем отделе снабжения района строительными материалами. Как только сняли блокаду – началось восстановление города. Разбирали рухнувшие при бомбёжке дома, восстанавливали разрушенные снарядами квартиры. Мама уходила – я ещё спала, мама возвращалась с работы – я уже спала. Попытки мамы уйти с этой изматывающей работы и подача заявлений об увольнении по собственному желанию кончались вызовом ее к «высокому» начальству и отказом удовлетворить просьбу. «Война продолжается. Ваша работа нас полностью удовлетворяет и ваш долг продолжать работать»
По различным учреждениям города стали распространять американские подарки. В основном это были носильные вещи, иногда ношенные, но в очень приличном состоянии, иногда новые. У меня было очень плохо с обувью, я всё ещё носила очень маленький, тридцать третий размер, он почему-то в магазинах отсутствовал. Практически создалась ситуация, когда мне не в чем было выйти на улицу. А тут вдруг я поехала на работу к маме, и среди подарков, полученных ремстройконторой, нашлись туфельки как раз моего размера. Они были на каблучке, из чёрного атласа и с маленькими жемчужинками на бантике. На записке, вложенной в одну из туфелек, на английском языке было написано, что хозяйке этих туфелек рекомендуется ходить в них только по коврам. Ковров у нас не было. Это были первые мои туфли на каблучках, ни у кого из моих одноклассниц такой обуви ещё не было. И я без ковров ухитрилась носить их целых два года.
Папины письма теперь приходили из-за границы. Сопоставляя данные, приведённые в газетах, с текстами папиных писем, мы понимали, что после серьёзных боёв в Венгрии, армия, в которой он сейчас воевал, вышла в австрийские Альпы. Об этом в письмах никогда не писалось прямо, в тексте же упоминались либо литературные произведения, в которых была описана эта страна, либо автор книги, национальность которого нам была известна. Один раз в письме была такая фраза: «Забавно, что мало кто из нас с первого раза смог выговорить такое название города как Секешфехервар, можно было бы включить это слово в скороговорку для детей». И мы понимали, что папа в Венгрии, где как раз в это время шли жестокие бои за этот город. В другой раз в письме упоминался роман Цвейга, где любовная пара поселяется в горном отеле в Альпах. Это говорило о том, что папа находится там. И действительно, позже при встрече с ним мы узнали, что какое-то время штаб Толбухина был расквартирован в знаменитом горном отеле, где в своё время отдыхала вся политическая элита Европы.
Дойдя до территории Австрии, воинская часть, в которой был папа, участвовала в освобождении заключённых немецких концлагерей. Никаких документов у большинства людей, отпускаемых на волю, не было, приходилось полагаться только на сказанное ими самими. СМЕРШ перед выпуском из концлагеря очень строго проверял тех заключённых, которые в отличие от всех остальных были хорошо упитаны и имели ухоженные руки. Перед этим при освобождении пленников другого концлагеря выяснилось, что лагерные охранники и начальство, не успевшие сбежать до прихода наших войск, быстро переоделись в робы заключённых, надеясь выйти из лагеря вместе с ними. И если бы не сами заключённые, узнавшие их и всей толпой на них набросившиеся, вполне возможно, что они сумели бы уцелеть и пробраться в безопасные для их жизни места. После войны рассказывали, что такое в массе происходило при освобождении заключённых американскими военными. Один раз сотрудники СМЕРШа попросили подойти к ним папу, хорошо знающего разговорный немецкий язык, и помочь им разобраться с одной из лагерных женщин, которая на вопрос, кто она такая, почему-то начинала петь. Папа рассказывал, что сразу узнал в измождённой постаревшей женщине австрийскую актрису Франческу Гааль. Несколько очень милых фильмов, где она исполняла главные роли, шли в наших кинотеатрах перед войной и пользовались огромным успехом. Надеясь на то, что кто-то из советских военных смотрел фильмы с её участием, она пыталась своей знаменитой песенкой из фильма «Петер» («Хорошо, когда работа есть/ хорошо, когда удача есть») подсказать им, кто же она такая. Среди офицеров многие смотрели фильмы, где главную роль исполняла эта актриса, но не узнавали её в лагерной одежде. После того, как Гааль узнал папа и другие офицеры, её постарались хорошенько накормить, пока оформляли необходимые бумаги, а потом отвезли домой. Причиной ареста она назвала свой отказ петь в ресторане на праздновании группой немцев какой-то важной для них даты.
Отпраздновав с Музой и Гариком день рождения, который пришелся на первый учебный день после зимних каникул, мы все трое с головой погрузились в учебный процесс. От этого времени у меня нет воспоминаний о каких-либо интересных событиях в школе. Второе полугодие в шестом классе протекало спокойно, без драм. В седьмом классе, где училась Муза, многие по окончании учёбы собрались уходить в техникумы. Муза и Алла поставили целью окончить седьмой класс с хорошими оценками и благополучно сдать экзамены, чтобы их перевели в восьмой класс. Экзамены были по нескольким предметам, поэтому они стали «зубрилками» и исчезли с моего горизонта, а я в свободное время чаще встречалась с вернувшимися из эвакуации ребятами из своей самой первой школы.
На семейном фронте самым запоминающимся событием того времени была драма, которую переживала бабушка в связи с предстоящей женитьбой Виктора. На этот раз Виктор всерьёз влюбился во вдову с маленьким ребёнком, и собирался на ней жениться. Ещё до войны, ссорясь с ним из-за его бесконечных любовных похождений, она сама ему предсказывала, что женить его на себе сумеет только женщина с пятью детьми. Поэтому, как утешала её моя мама, бабушке нужно не огорчатся, а радоваться, так как у будущей жены не пять, а всего один ребёнок.
В апреле стало ясно, что окончание войны не за горами. В мае ожидание подписания документов об окончании войны становилось всё сильнее и нестерпимее. Я помню, что все ожидали, что это произойдёт восьмого мая. В этот день в угловой комнате собрались все наши соседи, радиотрансляция была включёна на полную мощность, но продолжала играть музыка, а торжественной фразы Левитана – «Говорит Москва…», с которой начинались все самые важные сообщения, всё не было и не было.
В какой-то момент я задремала, сидя на стуле, и чуть с него не свалилась. «Иди к себе в комнату, приляг на постели, я тебя разбужу, когда начнётся передача» — сказала мама. Я решила не раздеваться, села рядом с подушками и провалилась в глубокий сон. Когда началась передача, меня решили не будить, и я её проспала и не слышала. Проснулась я только поздним утром, соседи давно ушли спать, мама спала тоже. Они, в отличие от меня, в ожидании передачи не спали всю ночь. Торжественное сообщение об окончании войны прозвучало только рано утром.
На Дворцовой площади должен был быть салют и концерт. Музы и Полины Ивановны дома не было, они поехали праздновать победу к вернувшимся из эвакуации родственникам. Я отправилась на салют одна, перешла через мост «Свободы» и замёрзла. В этот день небо было чистым, светило яркое солнце, но дул холодный северный или северо-восточный ветер. Пришлось вернуться домой и надеть новый жакет, сшитый для меня из мундира офицера испанской голубой дивизии тётиной подругой. Когда Виктор принёс этот новенький мундир, брошенный хозяином в блиндаже при поспешном отступлении, его украшала эмблема полка – пучок из трёх скрещённых по центру молний. Потом знакомый мальчишка выпросил у меня этот значок в свою коллекцию.
Я уже не помню всего, что происходило в тот день на Дворцовой площади. После салюта под громкие звуки музыки, льющиеся из всех репродукторов и перекрывающие все остальные шумы, публика начала расходиться по домам. Основным выходом с площади стала арка Главного штаба. Если на штаб посмотреть сверху, с высоты птичьего полёта, то вогнутый полукруг самого здания с аркой по середине по своей форме похож на гигантскую воронку. По мере приближения к арке — выходу с площади, толпа сплачивалась всё сильнее, сзади на идущих первыми давили следующие за ними, а с боков – стены Главного штаба, всё более сужающие пространство между собой. Передо мной шли два брата, похожие друг на друга как две капли воды, либо близнецы, либо погодки. Один был в морском кителе, другой – в форме сухопутного артиллериста. По их разговору было ясно, что они встретились впервые после длительного перерыва и никак не могут наговориться. Когда мы вошли в самую широкую часть воронки, где-то впереди слева раздался пронзительный женский крик: «Помогите, помогите, спасите меня!». Все с недоумением посмотрели друг на друга. Крики смолкли. Было совершенно непонятно, кто и почему кричал. Но чем ближе становилась арка, тем теснее прижимало нас всех друг к другу, тем труднее стало даже дышать. И уже никого не удивило, когда крики о помощи раздались впереди и правее нас снова. Громкая музыка заглушала крики о помощи, и их не слышали те, кто шёл за нами. Спустя короткое время я почувствовала, что при моём маленьком росте давление толпы начинает опускать меня вниз. Чтобы удержаться на ногах и не рухнуть на асфальт, я изо всех сил старалась не согнуть колени, и они у меня от беспредельной нагрузки предательски задрожали. Я отчётливо поняла, что если я сейчас упаду, толпа не сможет остановиться, так как на неё напирает масса людей, идущих сзади. И они сотнями пройдут по мне так же, как это было на Ходынке при коронации Николая Второго. Братья, идущие впереди меня, были высокими и поэтому испытывали меньшую нагрузку в сравнении со мной, но и они крепко держались за руки, а их лица были напряжены. Я дёрнула их обоих за рукава, и когда они обернулись, сказала: «Спасите меня, я сейчас упаду и меня раздавят». Они поглядели друг на друга, отжались, быстро вскинули меня наверх, сказав: «Держись за наши плечи». Моя левая рука оказалась на левом плече артиллериста, а правая – на правом плече моряка, они крепко схватили меня за кисти рук, и толпа нас понесла под арку здания Штаба. После выхода из-под арки давление начало спадать с каждым шагом. Братья перешли Невский проспект и донесли меня до стен кинотеатра «Баррикада», поставили у стены, и я, ещё не отойдя от пережитого страха, опустилась на корточки, так как ноги меня не держали. Они, приплясывая от нетерпения, озадаченно смотрели то на меня, то друг на друга. Я понимала, что они рвутся домой, к встречам с родными и друзьями, к празднованию Победы, и протянула к ним руку, за которую они подняли меня. Через минуту стояния у стены я почувствовала, что дрожь в моих коленках начала проходить. Я поблагодарила их за своё спасение и в ответ на их вопросы о моём самочувствии, заверила, что вполне способна дойти до дома самостоятельно. Они сразу радостно направились к Невскому, несколько раз оглянувшись в мою сторону, наверное, чтобы убедиться в том, что я стою, и помахав мне рукой, исчезли среди гуляющих. Это был самый страшный день в моей жизни за всё время войны. И этот страх перед толпой у меня остался навсегда. Но самое главное заключалось в том, что впереди была новая мирная жизнь, но с отголосками войны и блокады, как у всех, переживших это время.
После окончания войны штаб Южной группы войск расположился в Румынии, в городе Констанца, расположенном на самом берегу Чёрного моря. Вскоре папа написал мне, что Румыния (жители зовут её Романия) когда-то представляла собой одну из колоний Древнего Рима, что Констанца была заложена самими римлянами, так что ей много лет. На берегу моря в пределах города сохранились развалины строений того времени. Он писал, что Констанца для римлян была как Австралия для англичан или Сибирь для русских, туда ссылали провинившихся людей. Овидий был сослан на поселение именно в Констанцу, где и закончил свою жизнь.
Офицерам, оставшимся после окончания войны за границей, было разрешено вызвать в расположение своей части семью. Папа написал маме, чтобы она готовила документы, а он пришлёт ей вызов. В это время русской школы для учёбы приехавших за границу детей ещё не было. Поэтому было решено оставить меня в Ленинграде под присмотром бабушки. И сколько я ни пыталась доказать, что смогу прожить и без присмотра, мне это не удалось. За 1945-1946 учебный год мне предстояло закончить седьмой класс и сдать экзамены. Многие после окончания седьмого класса переходили учиться в техникумы.
Но пока мама ещё не уехала, мы с нею предприняли интересное путешествие. После окончания войны полк, в который входила пулеметная рота Виктора, был расквартирован под Выборгом. В одну из последних суббот августа у нас появился шофёр военной грузовой машины и передал маме письмо от Виктора. Он писал, что приглашает нас к себе в часть на воскресенье, так как они стоят в лесу, в котором много разных ягод. До Выборга нас довезёт шофёр, которому Виктор просил разрешить переночевать у нас. В воскресенье мы поднялись часов в шесть утра. Быстренько поели, шофёр пошел готовить машину, а мы стали собираться в дорогу. Для ягод мама нашла большой, литров на пять, бидон и сказала: «Интересно, сможем мы с тобой собрать столько ягод или нет?»
Погода была хорошая, утро тёплое и солнечное. Мы решили ехать в кузове. За кабиной на низких ящиках лежало несколько ватников, мы устроились на них и почувствовали себя, как на мягком диване. От ветра нас защищала кабина, и пока асфальт был ровным, машину почти не трясло. Когда машина выехала на Средне-Выборгское шоссе, мы увидели, что на всём протяжении вдоль дороги протянута колючая проволока. Она отделяла асфальтированную проезжую часть от песчаной пешеходной дорожки по бокам. На проволоке через определённые промежутки были повешены таблички «Осторожно, мины!» Нас очень удивило, что проволока отгораживала не только канавы, полностью заросшие за войну кустами, где трудно было обнаружить мины, но и пешеходную часть дороги между асфальтом и придорожной канавой, где, как нам казалось, мины были бы на виду.
По обе стороны дороги картина была такой, как будто смертельный бой закончился только вчера. Особенно много сгоревшей техники было с правой стороны дороги – наши и немецкие танки, искорёженные орудия, пробитые пулями каски. Особенно сильное впечатление на меня произвели два танка, наш и немецкий. Они, вероятно, шли на таран и теперь оба стояли почти вертикально, сцепившись гусеницами, как солдаты в рукопашном бою. Хотя оба танка горели и были чёрными от копоти, на одном ещё была видна свастика, на другом – красная звезда. Их необычная поза придавала им динамичность и создавала эффект, что их борьба продолжается до сих пор.
Когда мы, наконец, доехали до части Виктора, расположившейся в уцелевшем частном каменном доме, мы оказались посреди леса, и были отправлены собирать ягоды. Отойдя от дома метров на пятьдесят, мы посмотрели налево и увидели, что всё пространство под деревьями ярко синее, посмотрели направо и увидели кусты, казавшиеся на солнце голубыми. Ягод черники и голубики на кустах было столько, что на ветках не было видно листьев, а сами ветки от тяжести ягод ложились на кочки. За очень короткое время мы собрали полный бидон ягод, и мама ушла к Виктору чистить картошку, чтобы мы смогли вместе пообедать. А я бродила кругами по лесу, вышла на сгоревший дом, от него остался только каменный фундамент, вокруг которого росли яблони, и сорвала для мамы несколько яблок. Никогда в жизни я больше не видела такого количества ягод в лесу. Было очень обидно видеть ягоды, и при этом быть не в состоянии их есть, больше в меня уже не помещалось. Маму беспокоило даже то количество, которое я успела съесть. Она через каждые полчаса спрашивала меня, не болит ли у меня живот. Живот даже не думал болеть, но в него, увы! ничего больше не влезало.
Поздно вечером нас с мамой на машине отвезли на вокзал, мы купили билеты до Ленинграда и сели в дачный вагон. Поезд в то время шёл долго, не меньше, чем часов шесть, мы должны были приехать только рано утром. На стенах вагона над скамейками были полки для багажа, сделанные из сетки в крупную ячейку, натянутую на металлический обруч. Какие-то мужчины, сидевшие напротив нас и наблюдавшие, как я клюю носом, предложили маме: «Давайте мы закинем вашу девочку на багажную полку, пусть хоть она выспится в дороге». И закинули меня наверх. После целого дня прогулок по лесу я уснула крепким сном и даже ни разу не шевельнулась во сне. Несколько дней после поездки одна сторона моего тела и лица были в крупную красную клетку отпечатавшейся на мне багажной сетки.
По вызову, пришедшему из штаба Южной группы войск, маме, наконец, удалось уволиться с работы в ремстройконторе. Она готовилась к отъезду, а бабушка – к переселению в нашу квартиру, чтобы сторожить меня. Мы обе были этим очень недовольны. Бабушка в отношении меня придерживалась норм поведения для девиц конца девятнадцатого века: «Не стой у окна и не смотри в него – это неприлично. Не говори и не смейся громко – подумают, что тебя вообще никто не воспитывал» и всё в том же духе. А я за эти годы привыкла многое решать самостоятельно, и если мои решения были в пределах нормы, мама обычно не вмешивалась в мои дела. Но бабушка всегда любила настоять на своём. Кроме того, у бабушки были и реальные причины для огорчений. Почти полностью ослепшего деда приходилось оставлять на молодую жену Виктора, которая уже переехала к ним жить. Чтобы немного её разгрузить, бабушка предложила ей периодически брать к нам её пятилетнего сына. Всё это говорило о том, что с отъездом мамы в Румынию мне придётся привыкать к целому ряду нововведений, которые планировала провести в жизнь моя бабушка.
В этот год я пошла учиться уже в седьмой класс. Школьная жизнь в послевоенной школе текла своим чередом, никаких особых потрясений она не приносила. В сентябре сад имени К. Маркса, который мы считали своим школьным садом, начали приводить в порядок, главным образом чистить от упавших листьев, немецкие пленные. Когда мы на большой перемене гуляли в саду или пробегали мимо них, солдаты постарше часто хватали нас за одежду, за руки, пытались остановить и погладить по голове. Каждый раз они всё говорили и говорили, будто оправдываясь, что у них такие же дети, как мы, и что они ждут их в Германии. Но мы, вспоминая своих друзей, умерших от голода или погибших при обстрелах, отталкивали их руки, шарахались от них в сторону. Наверное, на наших лицах они ничего, кроме ненависти к себе или отвращения, не видели. У некоторых пленных на глазах появлялись слезы, но мы в искренность их чувств не верили, а слёзы дружно называли крокодиловыми.
До сих пор я не могу равнодушно слышать немецкую речь – инстинктивная реакция на её звучание как у дикого животного на врага. В одной из последних листовок, сброшенных немцами на Ленинград, немецкие врачи писали: «Не радуйтесь тому, что вы уцелели, что вы ещё живы, всё равно вы все подохнете в течение двух лет». И действительно, многие блокадники умерли в два первых послевоенных года. Недавно в радиопередаче, посвященной блокаде, называли городок, в котором сохранилась необычная братская могила — захоронение эвакуированных из нашего города детей. Привезли около двухсот ещё живых малышей, вскоре умерло около девяноста, так как голод вызвал в их организме нарушения, не совместимые с жизнью.
Правда, среди пленных был один, которого все жильцы нашего дома долго вспоминали с большим удовольствием. Левое окно нашей большой комнаты выходило на Клиническую аллею и на пандус гаража и авторемонтной мастерской НКВД, где работало много военнопленных. Один из них во время обеденного перерыва садился на перила пандуса и начинал исполнять теноровые партии из опер Верди, Вагнера, Бизе и других классиков оперной музыки. Он всегда пел, обращаясь в сторону нашего дома как в сторону зрительного зала. Мы, его жильцы, были для него зрителями и слушателями. Если он замечал, что кто-то подошел к окну и слушает его, то всегда раскланивался с этим человеком. Кончилось это тем, что жильцы нашего дома, чьи окна выходили в ту сторону, старались отблагодарить его за пение. Они подходили к металлической решетке, ограждавшей территорию гаража, показывая певцу, что принесли ему либо что-то съестное, либо курево. Он легко соскакивал с перил, брал «дары», с улыбкой многократно повторяя: «Данке шон». Курево он сразу же отдавал другим пленным, вероятно, чтобы курение не испортило его голос. А голос у него был изумительный, и сильный, и бархатный, он ведь пел без микрофона. Наши рабочие и мастера автомастерской не только не возражали против его выступлений, но так же, как мы, с удовольствием слушали его пение. Один раз и мы с мамой что-то собрали ему. Когда певец подошел к решетке, я увидела, что это молодой мужчина с артистической внешностью и, с трудом подбирая немецкие слова, ухитрилась спросить его, где он поет, в Германии? Он отрицательно замотал головой и сказал, что поёт в Венской опере, и что он не немец, а австриец. Это было всё, что я смогла понять на своем уровне знания немецкого языка. Он честно пропел нам всё лето сорок пятого года, а осенью исчез, может быть ему разрешили вернуться в его родную Австрию.
Одной из причин, побудивших меня записать мои детские воспоминания о страшном и героическом времени – блокаде Ленинграда, стало то, что выступления современных журналистов часто говорят о полном непонимании ими того душевного настроя и того патриотического подъема, который был свойственен ленинградцам, оказавшимся в окруженном врагами городе и не сдавшим его, часто ценой своей жизни. Я старалась правдиво рассказать о жизни в блокадном городе и душевном настрое окружавших меня людей.
Вспоминая блокаду, я до сих пор не могу понять, как мы выжили и как вообще можно было выжить в тех условиях. Среди тех, у кого в доме не было хоть каких-то съестных припасов, не выжил никто. Нас спас дачный сундучок, папины запасы столярного клея и мои обеды на военном корабле. И ещё неугасаемая вера в победу, для выживания был необходим оптимизм, пессимисты погибали в первую очередь.
Я никогда не жалела и не жалею о том, что осталась в блокадном Ленинграде. Такой высокой духовности всего народа, как в то время, я уже не увижу никогда. Во многом это объяснялось тем, что в городе остались, в основном, его коренные жители, интеллигенция и рабочие высокой квалификации, которым было свойственно и хорошее воспитание, и петербургский стиль жизни. И это то, чего не понимают многие современные люди.
Кто-то, говоря о военном Ленинграде, сказал, что фактически это был огромный концентрационный лагерь. Но в таких лагерях содержались пленные — побеждённые люди с травмированной этим психологией, а мы, находясь в ужасных бесчеловечных условиях, не только оставались свободными, но и стали победителями. И это чувство – я победитель – помогало мне и выжить, и просто пережить многие трудные или трагические периоды моей жизни.
Друзья военного детства. Их уже нет.
Не позовут и не отзовутся. Покинули этот свет.
А дружба была проверена голодом и огнём.
Они отзывались немедленно
Хоть ночью, хоть пасмурным днём.
И всё, что было с нами, стало что было со мной.
А их воспоминанья камнем ушли на дно
Реки, кем-то названной Лета.
Ни отзвука. Ни ответа.
Исси И. В. Как мы выжили. Моя война, моя блокада… // Блокада глазами очевидцев. Книга третья. — СПб., Остров, 2016. — С. 68-282.
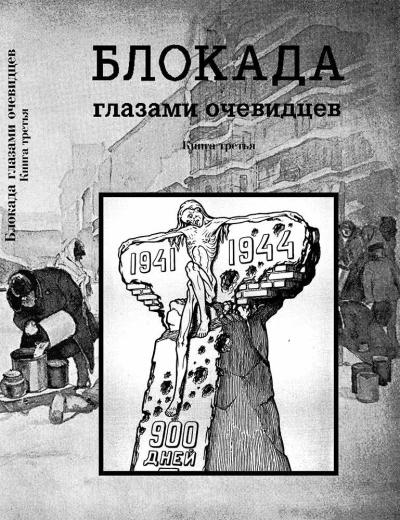
На обложке в центре рисунок А. П. Быстрова
“Эскиз памятника жертвам блокады Ленинграда”
Текст воспоминаний заимствован с сайта
http://www.belmamont.ru/index.php?action=call_page&page=product&product_id=1155
(исправлены слипшиеся слова и некоторые опечатки)